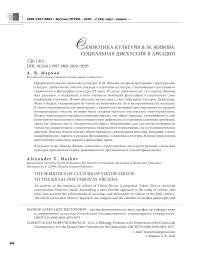Семиотика культуры В. М. Живова: социальная дискуссия в аркадии
Автор: Марков Александр Викторович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философские проблемы культуры
Статья в выпуске: 2 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
Предлагается анализ семиотики культуры В. М. Живова, который критиковал структурализм изнутри, требуя более гибкого подхода к изучению культуры, учитывающего достижения социологии и философии культуры ХХ века. В статье доказывается, что подход Живова был цельным, и входившие в него элементы новейшей философии и социологии сами подвергались критике. Живов выступал не как адепт, а как собеседник Гуссерля, Хайдеггера, Фуко и Бурдьё, указывающий не только на возможности, но и на ограничения их подходов. В статье анализируется, как такой диалог с идеями стал возможен при сохранении тех моделей интерпретации текстов, которые были созданы тартуско-московским структурализмом. Живов использовал отдельные ключевые образы, как образ Аркадии, соединявший в себе культурную ностальгию и экзистенциальную рефлексию, и отдельные ключевые проблемы, такие как «баланс сил» и «литургический образ», объясняющие, как в культуре возможно не только последовательное, семиотически продуманное переживание, но и последовательное действие. Поэтому Живов находит общие принципы семиотизации действия, например, в эпоху иконоборческих споров и в русском Просвещении. Семиотика культуры Живова продуктивна при изучении семиотики эмоций и философии права.
Виктор живов, семиотика, структурализм, постструктурализм, семиотика культуры, критическая теория, феноменология, аргументация в гуманитарных науках
Короткий адрес: https://sciup.org/144161357
IDR: 144161357 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10205
Текст научной статьи Семиотика культуры В. М. Живова: социальная дискуссия в аркадии
Виктор Маркович Живов (1945–2013), лингвист и историк русской культуры, уделял немало внимания теоретическим и методологическим вопросам. Будучи признан как один из ведущих специалистов по русской духовной культуре и по семиотике культуры и одновременно до самой своей смерти участвуя в дискуссиях, показывая свои методологические притяжения и отталкивания, он не объявлял своей последовательной программы, точнее, её чаще всего формулировал отрицательно, в критических замечаниях показывая ограничения и подхода Лотмана, и подхода Фуко. В настоящей статье мы, исходя из реконструкции философской позиции В. М. Живова, из его восприятия вклада философии ХХ века в более сложное понимание культуры, реконструируем его метод и покажем его актуальность для современных дискуссий о культуре.
Живов часто критиковал семиотику с позиций философии. Так, в попытках Якобсона опираться на Гуссерля он увидел пример философской ограниченности семиотики, не обладающей инструментами по-настоящему проблематизировать свои модели коммуникации [9]. При отсутствии философской дискуссии проблематизация этих моделей, согласно Живову, потребовала просто введения фактора радикального непонимания или радикального сбоя системы, как у позднего Лотмана, который пришёл к выводу, что в основе успешной коммуникации должно лежать ядро непереводимости. Но без обращения к философским достижениям Гуссерля, Хайдеггера или Витгенштейна такое утверждение непереводимости как условия коммуникации не работало, точнее, просто вело к признанию уникальности каждого семиозиса: сопротивление редукции оборачивалось просто вниманием к любым, даже самым эксцентричным моделям культуры – Живов обратил внимание, что в Тарту умеренно одобряли и, на его взгляд, тенденциозные построения Л. Н. Гумилёва, и уже выходившие за пределы научной аргументации эксперименты А. Т. Фоменко. В этом он видел не столько стремление расширить дискуссию, сколько попытки заменить философский эксперимент околофи-лософским, интеллектуальные головокружительные построения некоторой, скорее – горизонтальной, экспансией.
При этом как раз те российские исследователи, которые были пионерами освоения французской теории и её проблемати- ки дискурсивных границ знания, прежде всего переводчики «Слов и вещей» Фуко В. П. Визгин и Н. С. Автономова, отказывали Живову в собственной философской позиции. Визгин заметил, что культурологические модели Живова могут обходиться без какого-либо философского аппарата [2, с. 8–9], а Автономова усмотрела в критике Живовым структурализма Лотмана и старшего поколения Тартуско-московской семиотической школы скорее выражение его личных пожеланий, чем историко-философский анализ [1, с. 18]. Живов, считает она, хотел, чтобы сциентистский, индустриальный принцип порождения инвариантом вариантов был поскорее преодолён, а исследование языка было встроено в изучение социологии культуры, и поэтому он несколько пренебрежительно относился к усилиям Лотмана разрабатывать открытые семиотические модели: «Фактически то, что Лотман при этом говорил или мог бы сказать о поиске структурной динамики, а затем и об открытых моделях, Живова не убеждает» [1, с. 18]. Заметим попутно, что сам Лотман в работах последних двадцати лет критиковал кибернетические модели и расширял число субъектов диалога, в котором и осуществляется семиозис, и в этом смысле Лотман желал того же, что и Живов, и был столь же «поспешен».
Итак, Живов, конечно, поддерживает проект Лотмана, думая исключительно о недостатке феноменологической перспективы, как именно культура явлена нам, как она сама являет нам себя, в том числе и раскрывая собственные законы, тогда как для Визгина и Автономовой феноменологическая перспектива само собой разумеется, поэтому никаких заслуг Живова в диалоге с философией они не видят, а разве некоторую поспешность в культурно-исторических заключениях, в сравнении со скрупу- лёзностью Лотмана. Поэтому мы должны обратиться к тому, как Живов понимает се-миозис как часть феноменологического проекта, расширяя не столько поле семиотики, сколько поле феноменологии.
В предисловии к своей книге Живов заметил: «Деятельность сознания есть деятельность осмысления, длящегося наделения смыслом первичных переживаний, процесс, в котором из пены морской возникает и Сусанна, и созерцающие её старцы, предмет сознания и его временный собственник» [7, с. 9]. Мы легко узнаём в этой фразе гуссерлевскую терминологию, такую как «наделение смыслом первичных переживаний», с некоторыми намёками на Макса Штирнера – «единственный и его собственник», вполне в рамках историзма феноменологии [12]. Но образом эйдетического отношения оказывается Сусанна и старцы, что не может нас не удивить: старцы действительно подглядывали за Сусанной и специфицировали её красоту, но при этом вовсе не показали деятельность сознания. Ведь их показания расходились, они поддались соблазну и, выступая как люди с намерением насилия, показали себя не теми, кто наделяет смыслом, но теми, кто попирает любые смыслы. Тем самым сознание оказывается вовсе не длящимся, мы можем говорить только о длительности желания. Получается, что в центре внимания Живова стоит история эмоций. Но значит ли это, что проект Гуссерля и Хайдеггера состоит только в этом, что представления Лотмана о семио-зисе дополняются только некоторыми моментами философии Гуссерля и Хайдеггера, например, «расположенностью» сознания, которая понимается как устойчивое эмоциональное отношение к фактам культуры?
Мы доказываем, что Живов обращался к Гуссерлю, Хайдеггеру или Фуко не для того, чтобы обогатить структурализм ещё и историей эмоций, противопоставив непереводимости Лотмана открытость эмоциональной жизни. Культурология Живова была сложнее, включала в себя как философскую метакритику структурализма, так и пересборку того подхода к культуре, в котором и интеллектуальное, и эмоциональное оказываются моментами по-новому прочитанных Гуссерля и Хайдеггера.
Итак, Живов печально заметил, что семиотическая школа в СССР «окончательно распадается» уже в середине 1980-х [9, с. 24]. Бесспорно, перед нами взгляд инсайдера, потому что обычный читатель тартуской «Семиотики» в те же годы видел, скорее, новые горизонты, такие как исследование текста в тексте, семиосферы, семиотики истории и культуры, при сохранении общих правил работы. Но далее Живов говорит замечательную фразу, которая и будет ключом к нашему рассуждению: «Хотя некоторые её члены продолжают ощущать свою принадлежность к некоему идейному единству и обижаться на тех, кто от этого единства отпадает, само единство оказывается не общностью направления и пространством исследовательского взаимодействия, а общностью памяти – памяти разбредшихся в разные стороны учёных об оставленной в прошлом интеллектуальной Аркадии» [9, с. 24].
Образ Аркадии как ключевой, ностальгический для истории тартуской семиотики не принадлежит только Живову. Он главенствует, например, в мемуаре Сегала [10], который имел в виду, что в этом кругу мёртвых было не меньше, чем живых. Все замолкшие, убитые или забытые учёные, наследие которых собиралось по крупицам и публиковалось, формалисты, историки литературы, историки мифа, многие невидимые и незаметные – они и населяли Аркадию. Дать голос всем уничтоженным и было тогда за- дачей новой Аркадии в Тарту. Сегал следует традиционному пониманию Аркадии как места, где тоже есть смерть (Et in Arcadia ego), где даже прекрасная дикая природа напоминает о всеобщей смертности, а значит, о необходимости какой-то позиции.
Но если для Сегала Аркадия – вдохновляющий образ, то для Живова, наоборот, всегда проблема, которую культура в различные эпохи решает по-разному. По сути, Живов говорит о той ситуации, которую Кант в «Предполагаемом начале человеческой истории» описывал как изгнание из рая: в библейском рассказе Кант видел важную проблему, что мы не можем представить состояние человечества до начала истории, но это представление должно существовать как то, которое движет нами в работе нашего сознания, которое уже исторично, уже попало в историю и уже направлено на историю [11, с. 116–120]. Кант здесь выступает как предшественник Гуссерля, учения о направленности сознания на предмет, и поразительно, насколько Живов, всякий раз обращаясь к Аркадиям разных эпох и пытаясь раскрыть начальную установку сознания эпохи, проблематизирует самого Гуссерля на фоне Канта.
Так, Живов, решая вопрос, в какой мере русские летописи могли брать за образец «Хронику Георгия Амартола», замечает, что у Амартола описание некоего кроткого народа, сохранившего природное благочестие, отождествляемое с райским, связано «с мифологическими аномалиями» [7, с. 77]. Тогда как русский летописец сразу поставлен перед исторической реальностью, а не перед топосами, и поэтому должен воспроизвести общее место о райском народе, не имея при этом мифологической риторической матрицы, способствующей запоминанию различных фактов. Ведь, как постоянно подчёркивал сам Живов, на Руси «обра- зование носило исключительно катехитиче-ский характер», не вырастало из античной традиции, но определялось целями и задачами миссии [7, с. 81].
Итак, летописец не мог приписать изображаемому им племени полян никаких аномалий, которые были допустимы в риторически употребляемой мифологической географии, где с разными, часто, на наш вкус, фантазийными качествами племён связывались и разные технологии запоминания географического строения мироздания и распределения историко-политических смыслов. Поэтому неясным оставался «статус их природного благочестия» [7, с. 177–178], что превращало любое полага-ние их благочестия в искусственное построение. Тем самым Живов проблематизиру-ет гуссерлевское полагание, действие сознания: там, где Аркадия не поддерживается унаследованной от Античности мнемоникой и мифологией, такая интенция всегда будет провалом. Таким образом Живов вскрыл ограничения метода Гуссерля, но не противоречит Канту, для которого образ Аркадии, как образ библейского рая, был только поводом для обсуждения законности, юридической правомочности высказываний об истории и её составляющих.
Именно эта рамка, Аркадия как вопрос правового отношения не к отдельным коллизиям, а к самому факту истории, становится главной для Живова. Так, говоря о екатерининской эпохе, Живов заметил, что в воспеваемой поэтами екатерининской Аркадии живут «дикие народы». Мы бы хотели сказать, что и настоящая Аркадия была довольно дикой в сравнении с Афинами, но Живов подошёл к вопросу не как этнограф, а как историк идей. Он утверждал, что образы диких народов «олицетворяют те концы вселенной ... которые охватывает собой созданная императрицей Аркадия. Имен- но у концов вселенной располагаются многочисленные утопии, описанные авторами XVII века» [7, с. 452]. Получается, что сама конструкция екатерининского просвещения, направленного на снижение насилия среди диких народов, представляет собой утопическую попытку увести обратно в Аркадию мир, в котором любые правовые или политические решения грозят насилием: «всестороннее преображение общества под действием нового откровения» и было утопией ненасилия – построить школу означало остановить и интеллектуальный раскол, и церковный раскол, и любые расколы как социальные конфликты. При этом Живов говорит, почему такая Аркадия оказалась невозможна: для неё не было своей мнемотехники, точнее, уже в последнее десятилетие века никто не вспоминал эту мифологию. Каждый автор уже строил свой мир поэзии, свою технику и даже свою философию: «Философская тема государства в русской историко-культурной мысли данного периода была исчерпана» [7, с. 454]. В результате сохранение полагания и просвещённой интенции ещё не делало познание устойчивым и способным открывать новые качества предмета. Таким образом, Живов продолжает метакритику Гуссерля, ссылаясь на простые факты из истории русской литературы.
Наконец, третья попытка Аркадии, мифологической утопии, тоже потерпевшей провал, выделяется для советского времени. В одной из немногих статей о советской культуре Живов писал, что одного декларируемого политического равенства было недостаточно не только для советского народа, понимавшего, что никакого равенства не будет достигнуто, но и для элиты. При этом если народ был движим простыми притязаниями, то элиты – соперничеством за место в Аркадии, в мире чистого культурно- го потребления, никак не связанного с нуждой. Живов писал, что партийные функционеры, получив материальные блага, как соперники относились не к народу, который жил хуже, а к другим элитам, которые могли жить беднее (или богаче, если идёт речь о звёздах сцены или экрана), но интереснее, и потому составляли угрожающую альтернативу. Партийный функционер мог поэтому показывать «оказавшимся у них по случаю лицам другого круга свои собрания русских зарубежных изданий или новинок западного дизайна, русских икон или французских модных картинок» [4, с. 53]. Тем самым, по мнению Живова, здесь достигалось сразу две цели: партиец получал репутацию просвещённого человека (насколько искренне или нет со стороны гостя – другой вопрос), а достигнутое равенство в культуре «служило риторической приватизацией накопленного культурного богатства; вместе с тем партийная карьера хозяина как бы убиралась из фокуса, риторически аннигилировалась» [4, с. 53]. Тем самым достигался тот же эффект, что и у екатерининских чиновников: декларировалось утопическое просвещение, способное изменить всех и исключить любые конфликты, до тех пор, пока реальные социальные конфликты и реальная приватизация уже не образа поэта, как в конце XVIII века, а самих средств производства в конце ХХ века не отменили весь этот мир привилегий. Отчасти эту же коллизию Живов рассматривал и в работе «Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности» [5].
Итак, получается, что настоящая Аркадия в истории западной культуры поддерживалась мнемотехникой, и Кант показал ограничения этой мнемотехники, тогда как современный исследователь культуры, как Живов, показывает ограничения под- хода Канта и Гуссерля: из-за замены мнемотехники каким-либо философским методом вовсе не следует, что сознание будет поддерживать своё действие непрерывно и не будет приватизировано. Чтобы разобраться с этим, надо обратиться к тому, что Живов писал об ограничениях самой мнемотехники.
Для Живова эти ограничения вскрылись в Византии в споре иконоборцев и ико-нопочитателей [7, с. 56]: мнемотехника, исходящая из условной связи между напоминанием и напоминаемым предметом, вроде бы была на руку иконопочитателям: можно было указать, что грубость иконы как материального предмета не исключает того, что она указывает на духовное и непостижимое. Но, как замечает Живов, для иконоборцев этот вроде бы неоспоримый в традиции античной философии аргумент не работал: они просто могли обвинить своих критиков в том, что они следуют техникам античной интеллектуальной культуры, которые до этого постоянно подвергались критике в церковной традиции как неспособные проникнуть в тайну христианских догматов. Поэтому даже позиция Псевдо-Дионисия Ареопагита, вобравшая в себя достижения неоплатонизма и античной мнемоники, переставала работать: для иконоборцев она выглядит издевательской – если иконы – это такие далёкие от обозначаемой их реальности символы, то зачем им вообще уделять внимание, не проще ли от них отказаться [7, с. 53–54]. Следовательно, чтобы показать, что иконоборчество представляет собой гносеологический тупик, требовалась особая метакритика.
Настоящая аргументация была предложена Максимом Исповедником, который понял богочеловечество как событие, встраивающее в себя материю. В таком случае иконоборцы оказались плохими феноме- нологами, не способными выстроить правильно ноэтико-ноэматическую корреляцию [7, с. 52], а Максим Исповедник – предшественником Канта и Гуссерля. Но при этом, как мы говорили, Живов презирал философские усилия Якобсона, хотя в теории коммуникации Якобсона, и особенно в его поэтике, ноэтико-ноэматическая корреляция вполне достигается. Якобсон, наоборот, всё время пишет о том, как, например, авангардная поэзия становится неотъемлемым фактом социального сознания. Значит, в чём же на самом деле, по Живову, заключается слабость Якобсона?
Ключом здесь оказывается понятие литургического образа от Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, понимание икон как одной из принадлежностей евхаристического действия, где таким образом византийская мысль оказывается ближе Хайдеггеру с его пониманием вещи как основания как познавательного, так и поэтического действия. Тем самым Якобсон расчленяет познавательное и поэтическое действие, тогда как Максим Исповедник и Хайдеггер их объединяют, что и позволяет им создавать новую технику аргументации, технику монтажа, а не ностальгического воспоминания. Проект Якобсона и проект Тарту тогда – это ностальгия, это постоянное обращение сознания к Аркадии как единственному предмету, что не выдерживает проверки, когда поэты начинают создавать свои собственные проекты. Тогда как проект Жи- вова – это проект индивидуального усилия, которое и позволяет пересобрать историю как монтаж, на чём основана апология Живовым «Красного колеса» Солженицына от тех критиков, которые его разбирают, скорее, по упрощённому Лотману – как не-по-лифонический роман [3].
Здесь замечательна рецензия Живова на книгу А. Л. Зорина [8], в которой он одоб- ряет вывод Зорина о том, что представление о раскритикованном Руссо «балансе сил», которое для Просвещения, заметим, было не просто юридической реальностью, но осуществлялось самими законами циркуляции литературы, равным доступом политических субъектов к сведениям о происходящем, казалось в официальной России опасным, потому что рассматривалось как основа геополитического унижения в России – мир в Европе грозил косвенными совместными действиями против России. Но замечательно, что Живов говорит здесь не о политизации культуры, не о большом насилии всего екатерининского проекта, а о малом насилии, о тех структурах цензуры, самоограничения литературы и её локализации, в виде отдельных литературных занятий, при описании которого он вдохновляется Фуко, прямо заявляя, что Фуко полезен для изучения русской культуры только этим [6]. Тем самым Живов опять говорит о том, что важной оказывается не политическая интерпретация семиозиса как производящего некоторую гражданскую реальность, а скорее исследование того, как интенциональность сама оказывается только одной из форм отношения к происходящему, тогда как освободительный потенциал идей Фуко и Хайдеггера только предстоит оценить.
Таким образом, подход В. М. Живова может быть обозначен так: старая семиотика оказывалась слишком аллегоричной, в духе античной мнемоники, поэтому она могла проследить как возможен кризис культуры изнутри, но не могла объяснить, как возможен культурный перелом благодаря деятельности поэтов и появлению новых поэтик. Живов интересовался не тем, как можно продуктивно «употреблять» Гуссерля или Лотмана для обсуждения строения и функций культуры, но тем, каковы ограничения самого их подхода, связанного с тем, что интенциональность и условия познания понимаются как некое единое движение, некоторая единая «Аркадия», а не как только часть поэтик познания культуры. Поэтому то, что кажется у Живова его не-фило-софским проектом, творческой разработкой помимо философии, на самом деле оказывается метакритикой кантианства и феноменологии, основанной на простом наблюдении над теми тупиками, в которые входит интеллектуальная культура в различные периоды.
Размышление над тем, почему ресурса философии не хватило, чтобы преодолеть этот тупик, а потребовалось обновление и поэзии, и философии, нельзя считать равнодушием к философии в пользу истории культуры, как думают критики Живова. Напротив, это понимание того, что философия не просто развивается, а что сама структура философии включает в себя метакритику, и если эта метакритика не реализуется до конца, то лишь потому, что философские концепции слишком быстро встраиваются в культуру эпохи. Достаточно посмотреть на идеализированную эпоху, на эту «Аркадию», со стороны, и будет видно, с чего начать новую философию. Тогда и критика Живовым Якобсона и Лотмана – это не критика схематизаций, но критика той идеализации культуры, которая соблюдала философские требования, вполне могла быть кантианской или гуссерлианской, но не заключала в себе преобразующего действия философии в культуре. Это дело делается, как показывает опыт Живова, когда о нём говорят немного, без громких слов, но не сомневаются в нём.
Список литературы Семиотика культуры В. М. Живова: социальная дискуссия в аркадии
- Автономова Н. С. Лотман и Якобсон: романтизм, сциентизм и этос науки // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. № 3 (29). С. 13-22.
- Визгин В. П. Ещё раз об энтелехии культуры // Философский журнал. 2017. Т. 10, № 1. С. 5-22.
- Живов В. М. Как вращается «Красное Колесо» // Новый мир. 1992. № 3. С. 246-249.
- Живов В. М. Об оглядывании назад и частично по поводу сборника «Семидесятые как предмет истории русской культуры» // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 1999. № 2. С. 48-55.
- Живов В. М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. Т. 91, № 3. С. 114-140.
- Живов В. М. Что делать с Фуко, занимаясь русской историей? // Новое литературное обозрение. 2001. Т. 49. С. 85-88.
- Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. Москва : Языки славянской культуры, 2002. 758 с.
- Живов В. М. Двуглавый орёл в диалоге с литературой // Новый мир. 2002. № 2. С. 174-179.
- Живов В. М. Московско-тартуская семиотика: её достижения и её ограничения // Новое литературное обозрение. 2009. № 98. С. 17-27.
- Сегал Д. «Et in Arcadia Ego» вернулся: наследие московско-тартуской семиотики сегодня // Новое литературное обозрение. 1993. № 3. С. 31-32.
- Файбышенко В. Ю. Власть слов: теология политическая и теология поэтическая в анализе одного сюжетного паттерна // Артикульт. 2018. № 3 (31). С. 105-124. DOI: 10.28995/2227-6165-2018-3-105-124
- Ямпольская А. В. Аффективность как историческое измерение субъекта // Вопросы философии. 2013. № 3. С. 155-164.