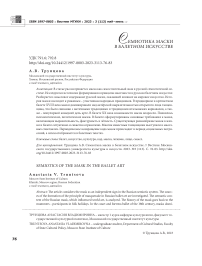Семиотика маски в балетном искусстве
Автор: Трунцова А.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Художественная культура: история и современность
Статья в выпуске: 3 (113), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается маска как самостоятельный знак в русской семиотической системе. Исследуются источники формирования принципа масочности в русском балетном искусстве. Разбирается смысловое содержание русской маски, оказавшей влияние на мировое искусство. История маски восходит к ряженым участникам народных праздников. В придворном и крепостном балете XVIII века маски доминировали над актёрской выразительностью открытого лица танцовщика, что было связанно с античными традициями и традициями итальянских карнавалов, а так же популярной комедией дель арте. В балете XX века возможности масок возросли. Появились психологические, политические маски. В балете сформулированы основные требования к маске, включающие выразительность, фактурность и лёгкость. Существующее разнообразие масок в жизни и балете ситуативно и сюжетно ограничено. Многие известные танцовщики выступали в масочных спектаклях. Периодическое возвращение кода масок происходит в период социальных потрясений, а затем отображается в балетных текстах.
Балет, искусство, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/144162780
IDR: 144162780 | УДК: 791.6, | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-3113-76-83
Текст научной статьи Семиотика маски в балетном искусстве
Маска – это предмет или накладка на лицо. В код отечественной культуры она вошла в XIII веке.Лат. Masca – «призрак». Для большинства культур это феномен, имеющий ритуальный характер. Маску надевают, чтобы изменить свою сущность. Двойственный характер маски заключается в следующем: она воплощает божественное или демоническое начало. Следует различать маски в прямом смысле и маски в кавычках, то есть в переносном смысле. Последние относятся к вторичному коду. Дискурс «надеваемой маски» особым образом соизмеряет человека с миром. Поэтому «сокрытие» индивида как его «растворение» в мире – это первоначальный смысл существования без лица. Количество масок по переживаниям в каждом событии всегда больше, чем нужно. Из набора масок складывается доступное для дискурса власти «лицо» человека. Субъект не получает полной защиты в маске, остаётся «зазор» между ней и лицом. Тем самым определяется смысл некоторой изначальной игры-неправды, заложенный в человеческом существовании. «Неподвижность» маски символизирует потребность человека овладеть событием, ускользающим от сознания. Смерть не просто уравнивает маску с лицом, а превращается веё подобие.
Маски античной культуры можно символически представить следующим образом. У Гераклита – «плачущая маска». Он оплакивает мир, который знает. Маска Демокрита есть смех.Ещё одна из масок – это «ироническая улыбка» Сократа; в ней смешиваются смех и слёзы. Античная маска существует как бы сама по себе; она, тем не менее, пытается «захватить» объект, не будучи связана с ним логически. Феномен не может пребывать в маске целиком. «Надевание» маски есть отказ от собственной индивидуальности, но она (маска) одновременно возносит ее. Это происходит благодаря свойству маски «скрывать-показывать». В связис маской возникает мотив тайны. Платон прибегает к использованию имён-масок. Он «присутствует» в диалогах под маской своих персонажей. К. Блазис справедливо считает, что традиция масок возникла в античности. Он называет основные античные маски [3, с. 126]. В греческом театре в масках играли люди и незаметно – Боги. Человек, надевший маску, по традиции считался наделённым божественным даром. Греческое слово, обозначающее театр, имело смысл места, где среди зрителей присутствовали Боги [16, с. 190]. Одним из источников зарождения балета является греческий театр. Именно там, внутри драмы, исполнялись первые хореографические миниатюры, а затем – и развёрнутые танцевальные куски. Исполнители наделялись масками, которые влияли на постановку хореографического текста. Уже в это время – во многом благодаря маскам – танцевальные движения стали наделяться неким смыслом и отдельные из них переходили в разряд символов. Так, величественно вздымаемые, округлые руки в статуарной позе символизируют достоинство и недосягаемость Богов. А ритмические па де буре в круговом построении стали символом Диониса. Именно в его культе исполнялись общественные танцы, напоминающие русские хороводы, в них участвовали все свободные, люди полиса. Нередко они танцевали в масках, что позволяло им чувствовать себя более раскованно в дионисийских мистериях. И в наше время подобные движения подсознательно раскодируются как символ хмельного веселья. В. М. Межуев подчёркивает роль дионисийской пляски в мироощущении античного человека [12, с. 200]. В балете «Спартак» Ю. Н. Григоровича (на античную тему) маска сатира переосмыслена, она наделена новой знаковой формой. Участники празднества Красса надевают маски, благодаря чему чувствуют себя безнаказанно и разнузданно. Их движения становятся животноподобными. Они мучают и истязают Фригию.
Каждой маске присущ соответствующий ритм, танец, музыка. Костюмы, аксессуары призваны сохранять следы маски. Однако, по мнению Е. Я. Шейниной, маски в античной (а затем в европейской) культуре целостного образа не создают. У маски может быть надстройка в виде перьев, бисера, материи. Она возвышается над маской и частично «поглощает» её [18, с. 501–502]. А. А. Пелипенко полагает, что в логоцентричной цивилизации глубинное содержание замаскировано. Он употребляет понятие «маска культуры» [13, с. 556].
В языческой Руси маски надевали жрецы в ритуальных целях. Позднее маски начали использовать для празднования Коляды иМас-леницы. По улицам ходили ряженые в медведя, быка, козу, гуся и других. Личины-маски делали из бересты. Ряженые собирали дары и благословляли хозяев. Сами маски называли «хари» или «лярвы». Они символизировали языческого Велеса. Не ранее XII–XIII веков появилисьмаски «кузнеца», «коновала», «гончара». В ходе игры нужно было угадать ряженого. Если его узнавали, то ряженый снимал маску. Нопрочих ряженых возглавлял парень в маске из глины, который нёс символического
«коня». Позднее маски носили скоморохи. Интересно, что фольклорный цикл «Скоморохи» поставил И. А. Моисеев в 1980 г [15, с. 609]. Г. Д. Алексидзе поставил в Камерном театре хореографическую миниатюру «Скоморохи» [1, с. 161]. В балете Ю. Н. Григоровича «Иван Грозный» используются скоморошьи маски. Царь появляется в маске, что наводит ужас на бояр. Языческий символ, используемый православным царём, свидетельствует о его жестокости и отступничестве.
В европейской культуре маски были неотъемлемым символом народных карнавалов, которые были запрещены церковной властью как богохульные. Маски с этого времени становятся табуированным знаком. В России подобным преследованиям подвергались скоморохи, носившие маски. Но в эпоху Ренессанса маски вновь входят в официальную культуру. В Венеции они стали сначала символом маскарада, а затем на их основе сформировалась комедия дель арте. Существует дифференциация венецианских, а позднее и неаполитанских масок, участвующих в комедии дель арте; на их основе создано множество произведений искусства.
В России интерес к Ренессансу возникает у символистов. В 1906 году В. Э. Мейерхольд поставил драму А. А. Блока «Балаганчик». Спектакли с использованием ролей-масок ставилиА. Я. Таиров – «Покрывало Пьеретты» (1916), Е. Б. Вахтангов – «Принцесса Турандот» (1922).
Ещё одним источником возникновения балета являются маскарады, а затем и балеты-маскарады, получившие распространение в Европе XVI века. В них участвовали придворные в индивидуально неповторимых масках, которые исполняли сольные вариации, стремясь в танце наибольшим образом раскрыть смысл своей маски. Поэтому маски стимулировали развитие хореографии в креативном индивидуальном и даже импровизационном направлении. Маски стали частью балетного действия. Считалось, что лицо танцовщика искажено физическими усилиями, и он не способен передать худо- жественный образ. Активно применял маски в своей работе П. Бошан. В балете-комедии «Мещанин во дворянстве» (1670) не только использовались маски как атрибут костюма, но принцип масочности был положен в основу сценического действа. Мещанин надевает маску дворянина, учителя надевают маски любезности. А причудливость и декоративность масок обусловили рисунок танца.
В XVIII веке в европейском балете стали отказываться от масок в пользу живой актёрской выразительности. М. М. Габович утверждает, что французский балетмейстер П. Гардель впервые вышел на сцену без маски, по его примеру маски не стали надевать и другие артисты. Габович категоричен в суждении, что с этого момента зрители увидели живое лицо исполнителя [5. с. 35]. В действительности маски впервые отменил М. Гардель (1741–1787) в партии Аполлона в опере Ж. Рамо «Кастор и Поллукс» (1772 г.). Его брат П. Гардель (1758–1840) в это время был ещё учеником, начинающим танцовщиком, выходящим в операх [2, с. 139].
В Россию балет пришёл в XVIII веке, поэтому маски в нём уже не использовались. Исключение составляли балеты на тему маскарадов. Например, балет «Маскарад в Краковском редуте», поставленный И. К. Лобановым в 1822 году. Тема сохранила свою актуальность и через 100 лет. «Маски города» поставила В. Майя в своей студии [15, с. 591]. В XVIII веке при дворе появились венецианские маски. При правлении Павла I карнавалы с масками прекратились. Интерес к театральным маскам снова возник вначале XX века.
В русском маскараде прослеживается тема самозванства. Барышни выдавали себя за крестьянок, а аристократы прикидывались пастухами. Маски ряженых пародировали власть. Переряжевание относится к антиповедению. Существует легенда, что скоморошья маска висела у Лжедмитрия вместо иконы [17, с. 166, 170].
Сам Пётр I оказался ряженым во время Великого посольства. В своём окружении он определял ряженых, которых выдавал за себя. В коде русской культуры существует два противоположных Петра I. К. Растрелли в 1719 году снял с Петра I гипсовую маску для конной статуи императора. Скульптор хотел добиться портретного сходства. Гипсовая голова Петра I находится в Эрмитаже. Для создания образа Растрелли придал лицу величие, сделал глаза огромными, а лоб высоким. Вскоре после смерти Петра I Растрелли создаёт восковую персону, используя эту же маску. В 1991 году М. Шемякин отлил в Нью-Йорке другого Петра I в своеобразную маску. Император изображён без парика с маленькой лысой головой и выражением брезгливости в глазах. В молодости Шемякин работал такелажником в Эрмитаже и ухитрился снять копию с растреллиевской маски [4, с. 310–311, 314]. Таким образом появились маски императора № 1 и № 2. В балете «Медный всадник» произошло перекодирование скульптурного, поэтического текста в хореографический. Р. В. Захаровым выбор был сделан в пользу маски № 1.
Во время крестьянской войны переодевание в рядах войск Разина, а затем Пугачёва, – обычное явление. Лица многих участников представляли собой стигматизированные знаки. Скрывать приходилось клеймо на лбу, щеке, вырванные ноздри. Их антиповедение – это ордена на крестьянских кафтанах и знаки духовного отличия. В балетных спектаклях эти детали – как трудновоспроизводимые – опускались. Например, спектакль «Пугачёв» на музыку Г. Ф. Генделя и А. Г. Шнитке в постановке «Независимой труппы» А. М. Сигало-вой 1992 года; хореографическая миниатюра «Казнь Степана Разина» на музыку Д. Д. Шостаковича, поставленная К. А. Рассадиным в 1977 году для труппы «Хореографические миниатюры» [15, с. 582, 602].
В России XVIII–XIX веков маски надевали члены тайных организаций. В закрытых лечебницах они были на лицах больных проказой или венерическими заболеваниями. После крестьянских войн сформировался образ разбойника в маске. К началу XIX века маски окончательно утратили сакральный смысл, но приобрели эстетический. М. Петипа не один раз обращался к маскам. Например, балет «Арлекинада» 1900 года [15, с. 563]. В балете «Сатанилла или любовь и ад», поставленном Ж. А. и М. И. Петипа по Ж. Мазелье, чёрт прикидывается прекрасной девушкой в маске. Маска наделяет чёрта притягательностью, кошачьей грацией. Фрагмент из этого балета восстановил Е. С. Качаров в 1978 году в Московском классическом балете [15, с. 706].
Важный источник развития принципа масочности на русской балетной сцене – это спектакли на восточную, чаще китайскую, тему: «Китайская императорская свадьба», «Китайская сирота», «Китайцы», «Балет, представляющий китайское торжество». В них происходило осмысление азиатской маски с её специфической символикой. Сложные ассоциации с традиционной японской маской вызывают персонажи в балете «Дочь Микадо», который поставлен в 1897 году Л. И. Ивановым в Мариинском театре. Женские партии исполняли М. Ф. Кшесинская, П. И. Преображенская, К. М. Куличевская [2, с. 192]. Нередко в России ставили балеты на африканскую тему, такие как «Бал африканцев», «Негритянский концерт». Однако африканские ритуальные маски в них не использовались.
Одним из источников принципа масоч-ности в балете являются маски в литературных текстах. Например, маска падшего ангела у М. Ю. Лермонтова («Демон»). Человеческие лики просвечивают через хари-рожи-морды персонажей Н. В. Гоголя («Вий», «Ночь перед Рождеством», «Ночь на лысой горе»). Маску человека без кожи Ф. М. Достоевского пытался передать Б. Я. Эйфман в балете «Идиот».
Самая известная национальная маска в балете, по мнению М. Гваттерини, это Петрушка [6, c. 131]. Сценическая жизнь этой маски началась в 1911 году благодаря М. М. Фокину. Сценарий написали И. Ф. Стравинский и А. Н. Бенуа. По ходу действия кукольный персонаж оживает, и маска становится его лицом. Событие происходит на масленичных гуляниях в Петербурге в 30-е годы XIX века. Безликая толпа равнодушна к страданиям Пе- трушки. Он погибает, но тут обнаруживается двойственная природа маски: тень Петрушки грозит фокуснику [2, с. 401]. Графичность и комизм маски задали хореографический рисунок, графику движений, их кукольность. На основе образной характеристики масок была разработана система лейтмотивов в балете. Каждый лейтмотив закреплён за своим персонажем как маска, что придаёт некую статику образов второстепенным героям, чему противостоит динамизм влюблённого Петрушки. К середине XX века русская маска стала символом мирового балетного искусства. В аргентинском балете постановка Петрушки состоялась в 1931 году. Её осуществил сам М. М. Фокин. На Кубе Петрушка был поставлен в 1948 году по инициативе А. Алонсо [2, с. 29, 279].
Хореографом, создавшим балет масок в России XX века, по праву считается К. Я. Голейзовский. В 1919 году он поставил балет «Маска». Главные персонажи Неизвестный и Неизвестная. Главная мысль балета – беспомощность и недостижимая красота в безобразном мире. Возникает ассоциация с А. А. Блоком, с его циклом «Снежная маска». В 20-е годы Голейзовского заинтересовала традиция дель арте [15 с. 134–136]. Постановка балета Голейзовского «Маска Красной смерти» была намечена в Большом театре в сезон 1918–19 года. Голейзовского поддерживали А. А. Горский и В. И. Немирович-Данченко. Против балета выступала часть труппы Большого театра во главе с В. Д. Тихомировом. Премьера так и не состоялась. Среди работ Голейзовского на тему масок выделяются «Маски» – сюита концертных номеров 1918 года, «Арлекинада» 1919 года, «Пьеро и Коломбина» 2020 года, «Трагедия масок» 1922 года [15, с. 563, 602].
В культуре XX века появились профессиональные маски. Они предназначались для маляров, сварщиков, пчеловодов. Распространение получили спортивные маски у фехтовальщиков, боксеров, регбистов. В некоторых балетах и хореографических миниатюрах на производственную тему, где были представлены социально ориентированные персонажи, действовал принцип масочности: «Ангара», «Геологи», «Завод», «Будущие лётчики», «Колхозная улица», «Советская деревня», «Наша деревня» [15, с. 567]. Однако прямой взаимосвязи между распространением масок в обществе и в балетном искусстве не существует. Она многократно опосредована. Несвобода может усиливать маскообразность лица. «Немота» лица в чаадаевском смысле – это признак такой маскообразности. В. В. Высоцкий писал по этому поводу:
«За масками гоняюсь по пятам, Но ни одну не попрошу открыться: Что, если маски сброшены, а там – Все те же полумаски- полулица»
[11, с. 2].
В 1980 году маску с Высоцкого снимал скульптор Ю. Васильев. Экземпляр для вдовы был отлит избронзы и серебра. Другую маску получил сын Никита. Перевод маски барда и актёра в пластический образ дан в спектакле «Песни Высоцкого». Этот спектакль поставлен в 1987 году Н. А. Волковой в «Хореографических миниатюрах» в Ленинграде [15, с. 598].
Исторически сложившийся социокод «ношения маски» был рассчитан на то, что смыслы присущи сообщению (тексту), и их надо только декодировать. В современной культуре смыслы маски возникают на уровне социального взаимодействия. Включение в разные коды позволяет интерпретировать маску как знак. В этом качестве маска универсальна, однако, текст привязан к определённой ситуации, подлежащей кодированию. Бесконечность смыслов маски реализуется через повторение сообщений (текстов).
Масочность, как один из принципов, на которых базируется актёрская и пластическая выразительность артиста балета, невероятно важна. М. М. Плисецкой часто приходилось сталкиваться с масками в жизни и в балете. Она отмечает «маску равнодушия», которая временами появлялась у Л. М. Якобсона. Плисецкая танцевала балет «Петушиные бои» (современная версия Электры) в Аргентине. В балете появляются 14 условных персонажей в масках с огромными лицами [14, с. 392, 460]. В балете «Чайка» балерину поднимают в замкнутом чёрном кубе четыре кавалера в масках [14, с. 400].
Современный балетмейстер Г. Д. Алек-сидзе уже на 1 курсе приобщал студентов к культуре маски. Он полагал, что маска даёт свободу, снимает наружное сомнение, чувство неловкости, придаёт силу исполнителю. Алексидзе пишет: «Маска – это магия. Она действительно обладает мистической силой, даёт силу обобщения, целостности» [1, с. 92].
На принцип масочности в конце XX века, особенно в экспериментальном балете, оказали влияние воззрения постмодернистов по поводу исчезновения лица у современного человека и появления новой функции маски. В мифологии важно не целое тело, а его частичность. Эта частичность органов закреплена за социумом. Ж. Делёз утверждает: «Маска является подобной институцией органов». Делёз использует понятие «тело-графия», чтобы подчеркнуть его знаковый характер. Графия танцует и оживляет тело. [7, с. 224, 324]. В современной культуре, как считает Делёз, маска находит новую функцию, противоположную её прежней функции. Маска ничего не скрывает, не прячет, не показывает и не обнаруживает. В примитивных семиотиках маска обеспечивает принадлежность головы телу. Теперь маска надстраивается над лицом, а само лицо становится бесчеловечным. [8, с. 299–300]. Лик Христа уже не проявляется в лице человека. Надстроенная маска рассчитана на двух-однозначные семантические отношения. [8, с. 297]. В постмодернизме события есть маскировка повторения. Его можно представить в качестве сингулярной маски. Интенсивность мысли, её разброс – это невиданная ранее маска. Однако она ведёт к возвращению «маски масок». Например, маски Спинозы, Лейбница, Канта. [8, с. 450, 470]. Сходную позицию занимает О. А. Штайн, считая, что человечество жи- вёт в мире множественности масок, утрачивая способность человека различать маску и лицо [19, с. 146]. И. В. Кузин утверждает, что смерть знака жизненной правды превращает лицо в маску [10, с. 153].
Переход маски из знака в символ трансформирует сам процесс коммуникации. Кодированию подлежат не столько смыслы, сколько их иерархия. Количество знаков, производных от феноменамаски, имеет тенденцию к увеличению. Символ маски таким свойством не обладает. В критические периоды российской истории (войны, революции, эпидемии) происходит уничтожение кодов. Возникает ситуация наличия маски – её отсутствия. Поэтому для коммуникации необходима двоичная система знаков, что облегчает перекодировку смыслов маски.
Маски в русском и западноевропейском балете вовлечены в своеобразный диалог. В масках из французских и итальянских балетных спектаклей русское сознание ищет ответы на вопросы, которые общество до сих пор не ставит. Человека в маски на балетной сцене можно рассматривать как знак бытия внутренней природы, но и в этом случае необходимо культурно-антропологическое начало, формируемое в пространстве культуры.
Каждая из масок – художественное открытие исполнителя, в которой он предстаёт с эстетической позиции. В семиотике маски можно выделить внешнюю и внутренние стороны. Изменение в смысловом содержании маски носит всеобщий характер, а способ осмысления маски всегда имеет национальную окраску. Маска в русском национальном балете восходит к оппозиции божественного и человеческого, сакрального и профанного. Маска утверждает себя в границах, определяемых лицом. Точно подобранная маска в балете семиотически дублирует лицо. В отличие от лица маска не исчезает в конечной совокупности опыта жизни. В этом отношении маска есть бесконечный объект означивания. Именно маска выражает то, что ускользает в лице от непосредственного восприятия. Со временем, по мере возобновления классического балетного репертуара, маски могут утрачивать свою эстетическую ценность, а вместе с ней – и неожиданность. Взамен возникают маски новых персонажей и современные хореографические тексты, причём этот процесс бесконечен. Таким образом, семиозис маски в балете представляет собой более сложное и противоречивое явление, нежели было принято ранее считать.