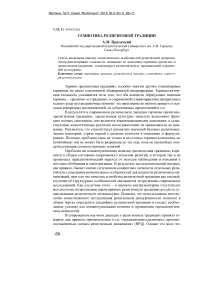Семиотика религиозной традиции
Автор: Прилуцкий Александр Михайлович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу семиотических особенностей религиозной традиции. Автор рассматривает сложности, связанные со значением терминов «религия» и «религиозная традиция», и анализирует различия между традиционной и архаичной культурами.
Традиция, архаика, религиозный дискурс, семиотика, категориальный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/146281463
IDR: 146281463 | УДК: 81-119+216.6
Текст научной статьи Семиотика религиозной традиции
Термин «религиозная традиция», подобно многим другим гуманитарным терминам, не имеет однозначной общепринятой интерпретации. Терминологическая сложность усиливается из-за того, что оба концепта, образующих значение термина, – «религия» и «традиция», в современной гуманитаристике превратились в своего рода пустые рамочные понятия – их наполнение во многом зависит от подходов конкретных исследователей, их субъективных предпочтений и т.п.
В результате в современном религиозном дискурсе термины «религия», «религиозная традиция», «религиозная культура» зачастую выполняют функцию полных синонимов, они являются взаимозаменимыми лексемами, а существующие коннотативные различия исследователями не принимаются во внимание. Разумеется, это способствует размытию значений базовых религиоведческих категорий, утрате наукой о религии точности в описаниях и формулировках. Полагаю, проблема здесь не только и не столько терминологическая, но понятийная: она не может быть разрешена до тех пор, пока не произойдет концептуализация соответствующих понятий.
Проблема же концептуализации понятия «религиозная традиция» коренится в общем состоянии современного изучения религий, в котором так и не произошел парадигматический переход от методов наблюдения и описания к методам обобщения и категоризации. В результате исследовательский интерес, как правило, бывает связан с изучением конкретных элементов отдельных религий или с описанием региональных особенностей деятельности религиозных организаций, при том что качества и свойства религиозной традиции как таковой, изучение её структурных особенностей оказывается за пределами современных исследований. Как следствие этого – в научном инструментарии отсутствуют методологии, позволяющие анализировать религиозную традицию ipso facto существования религиозного метадискурса. Полагаю, что использование методологии семиотического исследования религиозной дискурсивности позволит в общих чертах определить специфику религиозной традиции и создаст необходимые условия для концептуализации понятия и прояснения терминологических неясностей.
В современном научном дискурсе о религиозных традициях принято говорить, как правило, применительно к т.н. «традиционным религиям», противопоставляемым «новым религиозным движениям» (НРД). Однако это мало что проясняет относительно сущности проблемы: ведь очевидно, что и в НРД существуют свои традиции, – речь должна идти не о наличии/отсутствии традиций, но об их разработанности и продолжительности существования.
Исследователи обращают внимание на то, что при неспециальном словоупотреблении понятие «традиция» часто понимается как «архаика» – «в научной публицистике между архаикой и традицией, как правило, не делается различий» [7: 5]. Однако необходимо учитывать, что:
-
• традиции, как правило, хорошо структурированы, тогда как архаика не обладает рациональной структурой, не может выполнять функцию регулирования человеческого поведения;
-
• традиция устойчива, тогда как архаика не характеризуется определённостью и устойчивостью;
-
• наконец, «архаика не кристаллизуется в социальных формах – это свойство традиции, но оседает на психологическом уровне, прежде всего – на уровне подсознания» [7: 5].
Последний дифференциальный признак обладает выраженным социальным значением: поскольку архаика не преследует цели упорядочивания и рационального устроения окружающего человека социального пространства, «носитель архаических ценностей живет неустроенной жизнью, которая, по его мнению, и есть свидетельство его правильной ценностной ориентации» [1: 32]. Поэтому за стихийным народным неприятием петровских реформ, «направленных на создание регулярного государства» [4: 161–162], скрывался аксиологический конфликт архаики и традиции. При таком понимании Петр I выступает не в качестве борца с традицией, но наоборот – как носитель традиционного уклада, пришедшего на смену архаике: реформация и традиция при определённом стечении условий могут оказаться столь же амбивалентными феноменами, как «модернизм» и «фундаментализм» [2]. Иными словами, в принятой системе терминов петровские реформы должны интерпретироваться не как действия, направленные на разрушение традиционного уклада старорусской жизни, но как создающие условия для перехода от ценностей архаики к ценностям формирующейся традиционной культуры, основанной на социальной стратификации, упорядоченности, более чёткой организации социальных связей и отношений. В этом отношении традиция представляет собой структурное единство элементов, данную традицию образующих, но сама традиция не сводится ни к одному из них: для понимания значения традиции необходимо учитывать не только её состав, значение отдельных элементов, но и наличие структурно-семантических отношений. С этой точки зрения традиция может рассматриваться как метадискурс – «гетерогенный дискурс, включающий в себя тексты (типы текстов), относящиеся к различным социо-функциональным дискурсам, но имеющие определённые общие коммуникативно-прагматические признаки» [3: 9].
Семиотическое изучение традиции предполагает, как минимум, два уровня, на которых должен проводиться анализ. Это связано с тем, что, во-первых, семиотическим значением могут обладать семантически значимые элементы различных уровней, формирующие метадискурс традиции, будь то религиозные тексты, теологемы, мифологемы, ритуалы и отдельные ритуалогемы (понимаемые в предельно широком смысле), произведения религиозного искус- ства и их элементы, этические и аскетические установки и т.д. В качестве классической иллюстрации можно обратиться к теологическому обоснованию ико-нопочитания, принятому на VII Вселенском соборе, в оросе которого было определено, что «честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней».
Для выявления семиотической специфики элементов религиозной традиции нами ранее был предложен категориальный анализ, который позволяет выявить три уровня значения (разграничивать в данном случае «значение» и «смысл» не представляется продуктивным, поскольку «в реальной языковой ситуации для человека значение и смысл феноменологически слиты» [5: 35]) категориальный – обеспечивающий категоризацию и концептуализацию религиозного понятия, субкатегориальный – формирующий уровень контекстуальных и хронотопных коннотаций, и гиперкатегориальный – соответствующий использованию семиотических механизмов для формирования конфессионального семиотического кода. Применительно к этому, третьему уровню значения, элемент традиции интерпретируется вне пределов его категориальной семантики, например, почитание икон будет символизировать принадлежность к определённой конфессиональной общности и совершаться не ради естественной прагматики этого действия, но для семиотической манифестации конфессиональной принадлежности актора.
Однако помимо этого, семиотическим значением обладает религиозная традиция как таковая . Будучи символическим выражением идеи преемственности и упорядоченности, религиозная традиция может рассматриваться как сложный символ, обозначающий особый тип мировоззрения и мировосприятия, основанный на особой традиционной аксиологии (включая этику и эстетику), приверженность определенному метастилю поведения: само воцерковление можно рассматривать как символическое приобщение неофита к новой культурно-языковой традиции [12: 509]. Следует учитывать, что основным семиотически значимым элементом религиозного дискурса всё-таки является не символ, но метафора: «Moral relations between people and their relation to the divine are constructed from metaphors. God is like a father or a king or a lover: we are related as brothers: a heroic or virtuous life is like the life of Mohammed. Christ. Buddha, or Rama: men are like Mars and women like Venus, and so forth» [13: 3].
По интересному замечанию Джона Вилсона, отличительной чертой религиозного дискурса является наличие в нем «метафизических высказываний» – принципиально неверифицируемых и не подлежащих проверке [15: 95–96]. В качестве развития этого наблюдения, я готов предположить, что имеются все основания полагать существование особой модальности, которая играет важную роль в формировании религиозной традиции (семиотика модальностей религиозного дискурса до сего времени остается неизученной и неописанной).
Символизм традиции в значительной степени связан с ритуализированным характером дискурса, причем это качество тоже проявляется на амбивалентных уровнях: с одной стороны ритуал может быть частью традиции, с другой сама традиция может интерпретироваться как своего рода постоянно воспроизводящийся метаритуал, обладающий мощным герменевтическим потенциалом (последний проявляется, в том числе в особой, ритуализированной интерпретации истории. – Прим .) – по меткому наблюдению А.М. Пятигорского:
«когда история включается в ритуал, она конденсируется; она сжимается до размера ключевого события жизни ритуала, утрачивая свою временную однонаправленность и неповторимость. В ритуале она воспроизводится вновь и вновь как целое, а последовательность ее событий может меняться, и иногда даже меняться на противоположную, так что она перестает быть историей и становится чем-то иным – аллюзией, мифом или легендой, обернутой в ритуал и принимающей пространственные и временные измерения ритуала» [ 11: 337–338].
Подобно тому, как уничтожение текстов оказывается не более, чем знаковым приёмом, порождающим множество новых текстов [8: 50], отказ от традиции часто приводит к формированию новых традиций, а не переход к посттрадиционной парадигме. Представление о постмодернизме как о посттрадиционном обществе представляется в принципе несостоятельным, поскольку «посттрадиционные общества можно определить как подвижные культурные формы, которые по мере приобретения, в конечном счёте, стабильности снова превращаются в традиционное общество» [10].
Благодаря изучению взаимодействия религиозной традиции с иными традициями (культурной, языковой, национальной и т.д.) можно выявить структурное значение традиции, которое тоже в значительной степени семиотизиро-вано. Если понимать структурное значение традиции как формальную характеристику, определяющую место традиции в семиосфере, то структурное значение религиозных традиций, соответствующих развитым теологическим религиям, можно выявить через противопоставление традиции архаике и посттрадиционному укладу, нетрудно показать, что оно состоит в формировании темпо-ральности, а именно – в упорядочивании хронотопа через соотнесение настоящего с прошедшим и будущим . Выполненный М. Элиаде анализ темпорального антиномизма цикличного и линейного времени [14] позволяет предполагать, что формирование темпоральных парадигм происходит именно благодаря интердискурсивному взаимодействию религиозной традиции с иными традициями, представленными в семиосфере.
Если структурное значение религиозной традиции определяется достаточно просто, то о семантическом значении этого сказать нельзя. Полагаю, что о типологии семантического значения религиозной традиции говорить вообще сложно, поскольку последнее представляет собой опыт описания особого типа мировоззрения при помощи элементов языковых и экстралингвистических систем коммуникации. В этом отношении семантическое значение религиозной традиции можно уподобить семантике сложного метадискурса, формирующегося через соотнесение интенций и денотативных смыслов. Семантика религиозной традиции включает различные аспекты, поскольку один и тот же элемент религиозного дискурса, в зависимости от специфики коммуникативной ситуации, может развивать, например, сотериологические, эсхатологические, или аскетические значения.
Однако, в любом случае, религиозная традиция всегда апеллирует к устойчивым формам эстетики. Полагаю, в этом состоит принципиальное отличие религиозной традиции как таковой от дискурсивного пространства той или иной религии. Так, например, совокупность богословских текстов может быть нетождественна религиозной традиции именно потому, что может в минимальной степени задействовать семиотику эстетических категорий. Религиозная традиция же всегда равно семиотична и эстетична, она представляет собой опыт выражения и передачи - 69 - религиозной информации в эстетически значимой форме. Религиозную традицию именно поэтому можно оценивать как «богатую» (сложное содержание соответствует сложной эстетике) или «бедную» (неразвитому богословию и рудиментарной литургике соответствует скудость элементов эстетической системы). В этом отношении развитая религиозная традиция немыслима без того, что можно определить как «активное пространство визуальных (и акустических – А.П.) экспериментов» [6: 15], в котором теологическое (или шире – религиозное содержание) обретает эстетически значимую форму.
Разумеется, в условиях традиционного общества религиозная традиция является лишь одной из базовых традиций, взаимодействующих в семиосфере. В результате этого взаимодействия формируются амбивалентные субискурсы, относящиеся к религиозной культуре повседневности, религиозной этике социальных отношений, религиозному праву и т.д., в рамках которых религиозные компоненты реализуют как структурное, так и семантическое значение. Это дает основание полагать, что для семиосферы традиционного общества религиозная традиция является метатрадицией.
Поскольку религия в той или иной степени пронизывает и организует все культурные универсалии традиционного общества, семиотический подход к их изучению должен учитывать специфику семиотики религиозной традиции, в том числе специфику ее стратификации. Сразу следует отметить, что последняя остается неизученной, а результаты исследований структуры религиозного дискурса не могут быть экстраполированы на данный объект исследования.
Тем не менее, в качестве предварительной, можно предложить следующую структурную модель религиозной традиции, соответствующей развитой теологической религии.
-
1. Ритуалосфера: то есть совокупность ритуалов, норм и правил их проведения, мест, предназначенных для ритуальных действий, предметов, имеющих культовое или шире – сакральное значение, условий, необходимых для того, чтобы ритуал был действенным и действительным и т.д.
-
2. Теология и мифология (включая смешанные дискурсы, основными смысловыми единицами которых являются мифотеологемы).
-
3. Системы, обеспечивающие передачу религиозного знания.
-
4. Область повседневной религиозности, соответствующая установкам повседневной культуры, которая свойственна традиционалистскому укладу жизни.
Поскольку религиозная традиция является сложным, многоуровневым явлением, а элементы религиозного дискурса подвержены семиотическому дрейфу [9], осложняющему их идентификацию, изучение её семантических и семиотических свойств требует применения комплексного метода. Полагаю, что такая методология может быть создана на основе структурно-семиотического анализа, дополненного элементами дискурс-анализа, с учётом герменевтической специфики анализируемого материала и данных религиоведческого исследования. В принципе это созвучно с современными тенденциями в развитии религиоведения, которое всё более и более превращается в прикладную лингвистическую дисциплину.
Список литературы Семиотика религиозной традиции
- Волков В.Н. Архаика русской культуры и модернизация российского общества // Вестник Марийского государственного университета. 2013. № 11. С. 30-33.
- Головушкин Д.А. Религиозный фундаментализм/Религиозный модернизм: Концептуальные противники или амбивалентные феномены?//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. 2015. № 1 (57). С. 87-97.
- Голоднов А.В.Риторический метадискурс: к определению понятия //Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2008. № 2 (13). С. 7-18.
- Домников С.Д. Мать-Земля и Царь-Город. Россия как традиционное общество. М.: Алетейа, 2002. 672 с.
- Залевская А.А. Вопросы естественного семиозиса. Тверь: Твер. гос. унт, 2018. 160 с.
- Зотов С., Майзульс М., Харман Д. Страдающее Средневековье. М.: изд-во АСТ, 2018. 416 с.
- Костюк К.Н. Архаика и модернизм в российской культуре//Социологический журнал. 1999. № 3-4. С. 5-19.
- Лавров А. С. Колдовство и религия в России: 1700-1740 гг. М.: Древлехранилище, 2000. 574 с.
- Лебедев В.Ю. Религиозный ритуал западного христианства: культура, традиция, семиотика (XVI-XX вв.). Тверь: ГЕРС, 2008. 328 с.
- Нойзер В. Структурные изменения в посттрадиционном обществе. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnye-izmeneniya-v-posttraditsionnom-obschestve (дата обращения 07.01.2019)
- Пятигорский А. Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 448 с.
- Clarahan Mary Ann. Mystagogy and Mystery // Worship, 2009, Vol.83 (6), P. 502-524.
- Collins E. F. Reflections on Ritual and on Theorizing about Ritual // Journal of Ritual Studies. 1998. Vol. 12. N 1. P. 1-7.
- Eliade M. The Myth of the Eternal Return: Cosmos and History. Princeton: Princeton UP, 1971. 258 p.
- Wilson J. Language and the Pursuit of Truth. Cambridge University Press, 1956. 105 p.