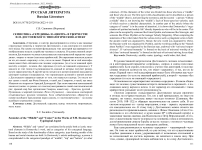Семиотика «середины» и «центра» в творчестве Ф.М. Достоевского: типологический аспект
Автор: Савинков Сергей Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
«Середина» и «центр» рассматриваются в статье и как знаковые структурные элементы в творчестве Достоевского, и как категории его понятийного языка. На основе изучения функционала этих категорий выстраиваются типообразующие модели устройства человека и социума. В художественной антропологии Достоевского человек осмысливается в категориальной парадигме «середины», «верха» и «низа» (или иных крайностей). Все персонажи писателя делятся на тех, кто имеет «середину» и тех, кто ее не имеет. Первый тип в этой классификации может быть обозначен как человек «середины» (то есть не знающий крайностей), а второй - человек «без середины» (то есть не знающий «середины»). У каждого из этих типов есть разновидности, каждый из которых получает развернутую характеристику. В другой части статьи (где в центре внимания оказывается категория «центра») показывается, что «организация духовной и земной жизни» у Достоевского напрямую зависит от того, кто окажется в центре. Это место может занять и такой, как Фома Опискин, и такой, как Ставрогин, и такой, как князь Мышкин или подросток Аркадий Долгорукий. При сопоставлении высказываний писателя (взятых из разных его текстов) выстраивается такой синтагматический ряд: древний мир был организован Гомером, новый мир - Христом, русский -Пушкиным, а мировой (согласно «Речи о Пушкине») - наделенным «всемирной отзывчивостью» русским человеком. Если «общечеловечество» образуется на основе всеобщего преклонения перед идолом, то «всечеловечество» - на основе всеобщего стремления к идеалу.
Достоевский, середина, центр, типология, миропорядок, идол, идеал
Короткий адрес: https://sciup.org/149141259
IDR: 149141259 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-110
Текст научной статьи Семиотика «середины» и «центра» в творчестве Ф.М. Достоевского: типологический аспект
В художественной антропологии Достоевского человек осмысливается в категориальной парадигме «середины», «верха» и «низа» (или иных крайностей). Если строить типологию с учетом этих категорий, то все персонажи писателя делятся на тех, кто имеет «середину», и тех, кто ее не имеет. Первый тип в этой классификации может быть обозначен как человек «середины» (то есть не знающий крайностей), а второй - человек «без середины» (то есть не знающий «середины»).
Остановимся на характеристике человека «середины». В самом общем виде это человек, существование которого связывается с серединой - с положением между верхом и низом. А вот характер его отношений с этими крайностями указывает на его разновидность.
«Золотая середина» осмысливается Достоевским весьма иронично и отнюдь не по-аристотелевски. Тот, кто к ней принадлежит, не знает ни «верха», ни «низа», поскольку живет «на всем готовом» [Савинков, Фаустов 2010, 108-132] и обращен исключительно на самого себя. В его системе координат он - центр мироздания, а мир - зеркало, отражающее его самодовольное «я». К этому типу у Достоевского можно отнести все разновидности приживальщиков, начиная с Фомы Опискина («Село Сте-панчиково и его обитатели») и мужа мадам М* («Маленький герой») и заканчивая такими лакеями, как Видоплясов и Петр Верховенский. «Готовое» существование такого человека есть основание, повод и возможность для возникновения сюжета борьбы за место: только у «готового» человека может быть нацеленный на его замещение двойник.
Еще одна разновидность человека «середины» - «ординарный» человек. Он тоже не знает крайностей, но уже потому, что его существование подобно движению в колее, удерживающей от возможных отклонений и не позволяющей ни достичь вершины, ни оказаться в самом низу. При этом, однако, ординарный человек амбициозен и, по слову Достоевского,

«весь, с ног до головы <...> заражен желанием оригинальности» [Достоевский 1972-1990, VIII, 385]. Так будет сказано о Гавриле Ардалионовиче Иволгине, которого повествователь отнесет в своей классификации к разряду тех, «кто поумнее». В отличие от «ограниченных», последние о своем положении догадываются, но относятся к этому факту, как к ошибке природы, требующей исправления с помощью «волшебных» помощников - денег или чудесной жены. При этом и «ограниченные», и те, «кто поумнее», будучи самыми что ни на есть ординарными, свято верят в свою исключительность.
Третью разновидность представляют те персонажи, для которых «верх» и «низ» не имеют никакого значения потому, что их нет в системе координат, где точкой отсчета является не действительность, а «живая жизнь» и Христос как средоточие любви, как середина, все к себе стягивающая и всех уравнивающая. Если в пространстве действительности «верх» и «низ» всячески нацелены на размежевание между собой, то в пространстве «живой жизни», напротив, - на снятие различий, разводящих их по разные стороны. Жизнь во Христе Сони Мармеладовой невероятным образом ставит знак равенства между блудницей и святой.
Для второго типа персонажей Достоевского общим признаком является отсутствие середины. Но и «человек без середины» имеет несколько разновидностей. Одну из них представляют те герои, существование которых может быть выражено разделительным союзом «либо-либо»: либо верх, либо низ. Это и Настасья Филипповна («Идиот»), и Грушенька («Братья Карамазовы»), и Лиза («Бесы). А первым из персонажей Достоевского, кто отрефлексировал такое состояние, был автор «Записок из подполья»: «Либо герой, либо грязь, средины не было» [Достоевский 1972-1990, V, 133]. Отсутствие середины подвигает таких персонажей на метание между крайностями. А в случае с Настасьей Филипповной - «безысходной неодолимости двух противоположных стихий духа» [Скафтымов 1972, 43].
Человеком «без середины» является, безусловно, и игрок, персонаж из одноименного романа. В отличие от подпольного человека, который, по его признанию, ничем не смог сделаться (ни героем, ни грязью), игрок с помощью рулетки имеет фантастическую возможность безо всякой, по слову Достоевского, «выделки» - сразу и вдруг - все получить в готовом виде, «один оборот колеса и все изменяется»: «Что я теперь? Zero. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал!» [Достоевский 1972-1990, V, 311].
Еще одну разновидность «человека без середины» представляют те персонажи, которые на «внутреннем» языке творчества Достоевского определяются словосочетанием «широкий человек».
В романе «Идиот» князь Мышкин в разговоре с Ипполитом противопоставит современного человека человеку прошлого времени: «Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитее, сенситивнее, как-то о двух, о трех идеях зараз... теперешний человек шире, - и, кля-

нусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, как в тех веках...» [Достоевский 1972-1990, VIII, 433]. Но наиболее развернутое высказывание о широком человеке инкорпорировано в рассуждение Дмитрия Карамазова о красоте: «<...> иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеалы Мадонны <...> Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил» [Достоевский 1972-1990, XIV, 100].
Широкий человек - человек без середины не потому, что мечется между крайностями, а потому, что эти крайности так в нем между собой сходятся, что оказываются неразличимыми. В этом случае определяющей чертой «человека без середины» является не раздвоение, предполагающее балансирование между «верхом» и «низом», а двойственность, предполагающая неразличимое соприсутствие крайностей.
Широкому человеку противопоставлен человек «односоставный», у которого нет середины и нет «верха» и «низа» - он целиком сориентирован на какую-либо крайность: либо на «верх», либо на «низ». Такую однополярность, можно наблюдать, к примеру, в Рогожине. И в самом деле: «Его предки с неистовым остервенением поклонились деньгам, он же с не меньшим остервенением поклоняется Настасье Филипповне» [Курганов 2001, 58.]. К этому же типу можно отнести и Аглаю Епанчину, бешеная ревность которой к Настасье Филипповне сродни рогожинской ревности к Мышкину.
Возможны, конечно, и некие промежуточные или смешанные варианты. Раскольникову, к примеру, присущи и раздвоение, и двойственность.
Раздвоение Раскольникова обусловлено его балансированием между «верхом» и «низом» из-за невозможности разрешения вопроса о принадлежности к одному из двух разрядов - «право имеющих» или «тварей дрожащих». Двойственность же - как бы наложением друг на друга систем координат с разными точками отсчета: «действительности» и «живой жизни». Как остроумно подметили: «Раскольников - это Соня Мармеладова, в которую вселился (временно, но цепко) бес рациональности и неверия» [Андреев, 2003, 155]. При этом и «двойственность» и «раздвоенность» Раскольникова можно считать следствием его уклонения (по каким-то причинам произошедшего) от изначально ему данной «односоставности». Ее, по всей видимости, и имеет в виду Порфирий Петрович: «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, - если только веру иль бога найдет» [Достоевский 1972-1990, VI, 351].
«Широтой» наделены у Достоевского и персонажи не первого плана, к примеру, Келлер и Лебедев из романа «Идиот». И тот, и другой демонстрируют Мышкину возможность такой широты, которая выражается в схождении противоположных друг другу мыслей. От Лебедева князь узнает, что можно искренне раскаиваясь в низком поступке, одновременно стараться извлечь для себя выгоду. «И слова, и дело, и ложь, и правда - все

у меня вместе, и совершенно искренно. Правда и дело состоят у меня в истинном раскаянии <.. .> а слова и ложь состоят в адской (и всегда присущей) мысли, как бы и тут уловить человека, как бы и чрез слезы раскаяния выиграть!» [Достоевский 1972-1990, VIII, 259].
Настало время изменить ракурс и поговорить о значении «середины» как центра в представлении Достоевского о мироустройстве. В свое время еще Н.А. Бердяев обратил внимание на то, что «в конструкции романов Достоевского есть очень большая централизованность. Все и все устремлено к одному центральному человеку, или этот центральный человек устремлен ко всем и всему. Человек этот загадка, и все разгадывают его тайну. Все притягивает эта загадочная тайна» [Бердяев 2016, 339]. Таким центром, требующим разгадывания (акцент Бердяевым сделан именно на этом), в «Подростке» является Версилов, в «Идиоте» - Мышкин, в «Бесах» - Ставрогин. Ставрогина Бердяев уподобил солнцу, вокруг которого все вращается: «<.. .> он весь - загадка и тайна, он весь из полярных противоположностей, все вращается вокруг него, как солнца» [Бердяев 1914, 80]. Подобно первосущности Плотина (аналогия здесь вполне прозрачна) Ставрогин порождает и формы бытия, и все многообразие вещей путем эманации.
Сначала он эманирует идеи («Все последние и крайние идеи родились в нем: идея русского народа-богоносца, идея человекобога, идея социальной революции и человеческого муравейника»), которые, в свою очередь, «породили других людей, в других людей перешли»: «Из духа Ставрогина вышел и Шатов, и П. Верховенский, и Кириллов, и все действующие лица “Бесов”. Ставрогиным были сотворены все иерархии этого мира: “В духе Ставрогина зародились и из него эманировали не только носители идей, но и все эти Лебядкины, Лутугины, все низшие иерархии ‘Бесов’, элементарные духи”». И женский мир был также порожден Ставрогиным: «Из эротизма ставрогинского духа родились и все женщины “Бесов”». А заканчивается это место в рассуждениях Бердяева так: «От него идут все линии. Все живут тем, что было некогда внутренней жизнью Ставрогина. Все бесконечно ему обязаны, все чувствуют свое происхождение от него, все от него ждут великого и безмерного -ив идеях, и в любви» [Бердяев 1914, 82].
Однако, согласно интерпретации Н.А. Бердяева, эманация такого рода ведет не к созиданию, а к разрушению: «Безмерность желаний Ставрогина вышла наружу и породила беснование и хаос. Он не совершил творческого акта, не перевел ни одного из своих стремлений в творческое действие, ему не было дано ничего сотворить и осуществить <...> Только подлинный творческий акт сохраняет личность, не истощает ее. Истощающая эманация ничего не творит и умерщвляет личность» [Бердяев 1914, 83].
Интерпретация, данная Ставрогину Бердяевым, стала классической. Однако не собственно в ней сейчас дело. В данном случае внимание должно быть обращено на роль и значение центра в мире Достоевского не только с точки зрения его романного устройства (о чем говорил Бердяев), а с
точки зрения его художественной идеологии.
Нельзя не заметить, что положение Мышкина сходно со ставрогин-ским. Но так же очевидно, что Мышкин является центром другим: не тем, к которому все развернуты, а тем, который сам развернут ко всем. Как заметил Н. Бердяев: «В “Идиоте” все движение идет не к центральной фигуре князя Мышкина, а от нее ко всем» [Бердяев 2016, 341 ]. Мышкин - центр и середина в том смысле, о котором говорится в Евангелии от Матфея: Христос дал нам обетование: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» [Мф. 18:20].
С самого начала своего появления в Петербурге князь невольно включается в происходящие перипетии, оказывается в центре двух семейных драм, и все их участники попадают в ситуацию, когда уже не могут что-то предпринять без учета его присутствия.
Мышкин становится соединительным звеном между теми, кто развернут по отношению друг к другу в разные стороны: между Настасьей Филипповной и Рогожиным и одновременно между Настасьей Филипповной и Аглаей; между Аглаей и Ганей Иволгиным, а также между Ипполитом и Ганей Иволгиным и т.д. И тот, кто оказывается рядом с ним, обнаруживают в себе не только свое, но и мышкинское. Это отмечает, например, Рогожин в отношении Настасьи Филипповны: «С тобой она будет не такая, и сама, пожалуй, этакому делу ужаснется, а со мной вот именно такая» [Достоевский 1972-1990, VIII, 174].
Если эманации Ставрогина порождают его своеобразных двойников, образующих множество суверенных и амбициозных единиц, то доброжелательство Мышкина создает условия для сближения крайностей и созидания существования (по аналогии с «широким человеком») без разделительной черты. И сам Мышкин ответно начинает обнаруживать в себе то, что есть у других. Примечательна его реакция на слова Келлера о двойных мыслях: «Вы мне точно меня самого теперь рассказали... Мне даже случалось иногда думать <...> что и все люди так» [Достоевский 1972-1990, VIII, 258]. Здесь было бы не лишним вспомнить о мыслях Достоевского по поводу присущей русскому человеку «всемирной отзывчивости». Она как раз и заключается в предназначенной ему миссии вносить примирение во все противоречия для достижения «великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» [Достоевский 1972-1990, XXVI, 148].
Однако такое взаимообратное соприкосновение «ангелического» и человеческого не повлекло за собой изменения ни людей, ни Мышкина: кто, каким был, таким и остался. В эпилоге о судьбах разных персонажей будет сказано одной строкой: «Лебедев, Келлер, Ганя, Птицын и многие другие лица нашего рассказа живут по-прежнему, изменились мало, и нам почти нечего о них передать» [Достоевский 1972-1990, VIII, 508]. Подобно Пушкину, способному проникать в дух других народов, Мышкину дано проникать в дух других людей, но не дано изменить их. У него как бы нет необходимой для этого пушкинской творческой энергии, без которой
преобразование невозможно. И это апофатически согласуется с одной из основных и повторяющихся мыслей Достоевского, что жизнь - сама по себе искусство, и жить - значит создавать из себя произведение искусства [Джексон 2020, 228]. Апофеозом пребывания Мышкина в миру стало только его братское согласие с тем, с кем, казалось бы, никакого согласия быть не может - с Парфеном Рогожиным. А соединила их, принеся себя в жертву, Настасья Филипповна, в гибели которой оказались повинны они оба. Такой финал позволяет иначе рассмотреть вопрос о центре в этом романе и лучше понять, что имел в виду Достоевский, говоря устами своих героев, что красота способна, по слову Аделаиды, мир перевернуть, а по слову князя Мышкина, спасти его.
Центричная организация сюжетного и персонажного пространства -явление у Достоевского скорее типическое, чем исключительное. На место в центре в первую очередь претендуют персонажи «середины», служители «золотого тельца». Среди них можно выделить и Фому Опискина («Село Степанчиково и его обитатели»), и Зверкова («Записки из подполья»), и мужа мадам М («Маленький герой»), и Ганю Иволгина («Идиот»), и Петра Верховенского («Бесы»), В центре может оказаться и «математическая голова», на которую, в пересказе Разумихина, уповают социалисты. По их представлениям, из этой головы должна выйти социальная система, которая «тотчас же и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным <.. .>» [Достоевский 1972-1990, VI, 197]. Точно так же и вышедшая из головы теория Раскольникова претендует на новое слово в понимании мироустройства, а сам Раскольников - на статус миро-устроителя. Роман «Преступление и наказание» в том числе и о том, кто должен быть в центре - математическая голова, Раскольников или Христос; теория или Евангелие.
Какой будет «организация духовной и земной жизни», напрямую зависит от того, кто окажется в центре. При сопоставлении высказываний писателя (взятых из разных его текстов) выстраивается такой синтагматический ряд: древний мир был организован Гомером, новый мир - Христом, русский - Пушкиным, а мировой (согласно «Речи о Пушкине») - наделенным «всемирной отзывчивостью» русским человеком. Если «общечело-вечество» образуется на основе всеобщего преклонения перед идолом, то «всечеловечество» - на основе всеобщего стремления к идеалу. Последнее предполагает рост, а значит, постоянное пребывание, как сказано о мальчике-подростке в «Маленьком герое», «в уклоненной, переходной и неготовой форме» [Достоевский 1972-1990, II, 276].
На это произведение Достоевского следует обратить особое внимание. На первый план в нем выдвигается герой-подросток, а вместе с ним важная для писателя тема и идея.
Одиннадцатилетнему мальчику удается совершить не сказочное, а настоящее чудо преображения. Совершается оно тогда, когда у самых разных действующих лиц безостановочного праздничного спектакля (где все роли заданы, предопределены и неизменны) вдруг начинают распадаться

готовые формы их амплуа. Этому своему герою Достоевский определил положение, которое стало семиотически значимым в его творчестве - положение «между», требующего выбора и поиска. Подросток оказывается между двумя дамами, друг другу во всем противоположными. Одна - сама отвага и смелость, другая - робость и беспокойство. Одна - неуемное движение, другая - душевное смятение при внешнем спокойствии. Эти женщины (представляющие две разные ипостаси красоты) и побудили мальчика к свершению двух главных для жизни подвигов - самоутверждения и самоотвержения. Осуществление каждого из них требует усиленной работы над собой, по слову Достоевского, - «выделки»: «По-моему, одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека» [Достоевский 1972-1990, XXV, ПО].
Схожая диспозиция представлена и в «Идиоте». Подобно «маленькому герою» князь Лев Мышкин оказывается между Настасьей Филипповной (красотой небесной) и Аглаей (красотой земной), но, любя их обеих, подвиг совершить не в состоянии. Тот, кто не способен изменяться, не имеет возможности и что-то изменить. А вот у героя романа «Подросток» (продолжающего и развивающего тему «Маленького героя») эта возможность есть потому, что у него есть и идея, и идеал, без которых нет роста - необходимого условия для изменения и преображения и самого себя, и того, что вокруг.
Идея роста заложена уже в самой повествовательной структуре «Подростка»: Аркадий Долгорукий доверяет письму те ощущения и переживания, которые он испытывал, будучи подростком, осознавая при этом, что между ним «теперешним» и ним «тогдашним» - «бесконечная разница». Определяющим фактором такого роста является его постоянное пребывание в промежуточном состоянии между молодостью и взрослостью, между всеми семейными и общественными функциями, между авторством и ролью героя. Аркадий Долгорукий становится автором в двойном смысле - автором текста и автором жизни. Именно такая динамическая двойственность и заставляет подростка все время менять векторы своих устремлений, действовать во все стороны и тем самым невольно оказываться в гуще событий, в самом их центре. Версилов же (по Бердяеву, центральная загадка) оказывается в таком случае псевдо-центром.
Понятно, что центричность подростка имеет иную - созидательную -природу. А это возможно тогда, когда действительность не понимается как данность, но как заданность, как динамичный процесс постоянного переосмысления, конструирования, проектирования, вымышления и интерпретации. В этом случае есть то, чего не было у Мышкина, - преображающая действительность творческая («пушкинская») активность. И это еще один шаг к ответу на вопрос о том, почему красота может спасти мир.
Человек, обращенный к идеалу красоты и нравственности, - человек, не знающий середины. И это подросток. Это именование Достоевский относит и к человеку вообще, безотносительно к его возрасту. Ибо человек
«есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное» [Достоевский 1972-1990, XX, 173]. Идеальная ситуация для Достоевского - быть посередине (исходная позиция для преобразования мира) и без середины внутри себя (необходимое условие для движения и развития).
Список литературы Семиотика «середины» и «центра» в творчестве Ф.М. Достоевского: типологический аспект
- Андреев А.Н. Персоноцентризм в классической русской литературе XIX века. Диалектика художественного сознания. М.: ИНФРА-М, 2021. 430 с.
- Бердяев Н.А. Русская идея. Миросозерцание Достоевского. М.: Издательство "Э", 2016. 512 с.
- Бердяев Н.А. Ставрогин // Русская мысль. 1914. Кн. V C. 80-89.
- Джексон Р.Л. Достоевский: поиск формы. Философия искусства писателя. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. 228 с.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990.
- Курганов Е. Роман Ф.М. Достоевского "Идиот". СПб.: Звезда, 2001. 205 с.
- Савинков С.В., Фаустов А.А. Аспекты русской литературной характерологии. М.: Изд-во Кулагиной - Intrada, 2010. 332 с.
- Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. М.: Художественная литература, 1972. 542 с.