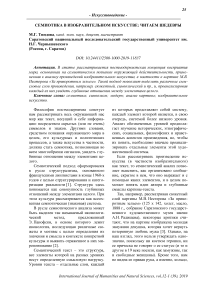Семиотика в изобразительном искусстве: читаем шедевры
Автор: Тиндова М.Г.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 12-1 (39), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается постмодернистская концепция восприятия мира, основанная на семиотическом познании окружающей действительности, примененная к анализу произведений изобразительного искусства, в частности к картине М.В. Нестерова «За приворотным зельем». Такой подход позволяет выделить различные смысловые слои произведения, например, сюжетный, символический и пр., и, проанализировав каждый из них увидеть глубинные отношения между элементами целого.
Семиотика, символизм, модерн, анализ картины, изобразительное искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/170185776
IDR: 170185776 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11837
Текст научной статьи Семиотика в изобразительном искусстве: читаем шедевры
Философия постмодернизма советует нам рассматривать весь окружающий нас мир как текст, несущий в себе информацию посредством скрытых (или не очень) символов и знаков. Другими словами, средством познания окружающего мира в целом, его культурных и политических процессов, а также искусства в частности, должна стать семиотика, позволяющая во всем многообразии сигналов, увидеть глубинные отношения между элементами целого.
Семиотический подход сформировался в русле структурализма, основанного французскими лингвистами в конце 1960-х годов с целью структурирования и категоризации реальности [1]. Структура здесь понимается как совокупность глубинных отношений между элементами целого. При этом культура рассматривается как всеохватная семиотическая (знаковая) система.
В русле семиотического анализа может быть выделен так называемый иконологический метод, предложенный Э. Панофски, в основе которого лежит иконология, исследующая различные сюжеты и мотивы с целью определения их значения и смысла в контексте конкретной культуры и выявить отраженное в них миропонимание [2].
Семантический текст – это структура, все элементы которой на разных уровнях несут определенную смысловую нагрузку. Уровни текста – отдельные слои, каждый из которых представляет собой систему, каждый элемент которой является, в свою очередь, системой более низкого уровня. Анализ обозначенных уровней предполагает изучение исторических, этнографических, социальных, философских и нравственных аспектов произведения, но, чтобы их понять, необходимо вначале проанализировать отдельные элементы этой художественной системы.
Если рассматривать произведение искусства (в частности изобразительного) как текст, то семиотический анализ позволяет выяснить, как организовано сообщение, скрытое в нем, что оно выражает и с помощью каких элементов, и в целом помогает понять идеи автора и глубинные смыслы картины-текста.
Так, например, рассматривая сюжетный слой картины М.В. Нестерова «За приворотным зельем» (125 x 142, холст, масло, 1888 г., собрание Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева), некоторые критики считают, что на картине изображена молодая замужняя девушка, которая хочет вернуть потерянную любовь мужа [3]. Однако, на наш взгляд, этого нельзя утверждать однозначно, поскольку ни костюм героини, ни ее прическа не говорят о ее статусе (и то и другое в 19 веке носили, как замужние, так и свободные женщины). Кроме того, нам не видна ее правая рука, а именно, кольцо, которое позволило бы говорить о ее замужнем статусе однозначно.
Михаил Васильевич Нестеров относил себя к художникам передвижникам, но личное горе, случившееся с ним на самой заре жизни, привело его к модерну – стилю предусматривающему написание картины с элементами сказочных образов. Такая манера автора проявляется и в фольклорной трактовке персонажей, и в самом выборе сюжетов, позволяющих раскрывать поэзию простонародных верований и легенд, и в характере пейзажа, придающего картинам сказочный настрой. Кроме того, тема одинокой тоскующей женщины одна из самых повторяемых в творчестве Нестерова, что также часто связывают с ранней смертью жены художника.
На первый взгляд картина «За приворотным зельем» изображает тихую лесную поляну, окруженную вековыми деревьями. На поляне стоит деревянный покосившийся домик, из распахнутых дверей которого выглядывает седой, сгорбившийся старик в остроконечной шапке-ермолке. На бревне возле избушки, утопающей в зелени и цветах сидит одинокая и очень печальная крестьянская девушка. Платок ее сбился и развязался, руки опущены к коленям, весь образ ее выдает глубокие душевные переживания.
Но проводя этнографический анализ сюжетного слоя картины, а также анализ костюма и в целом репрезентативный анализ жизни российской глубинки 19 века, начинаешь сомневаться в такой уж безмятежности сюжета.
Основываясь на социологии и исторической психологии российской жизни 19 века [4], следует заметить, что в данный период времени в русских традициях было жить большой семьей, включающей несколько поколений, и, выходя замуж, девушка уходила жить в дом мужа и его родителей. Поход за приворотным зельем – это то, что должно остаться в тайне. И замужней женщине, днем, да еще в таком ярком красивом наряде было бы сложно, если не невозможно, уйти из дома одной. Соблюдая честь и традиции, замужняя женщина в конце 19 века никогда не выходила из дома одна, да и мест, куда мож- но пойти, в деревенской жизни не так много (церковь или рынок). Таким образом, можно прийти к выводу, что на картине изображена незамужняя девушка из достаточно богатой семьи.
Во-вторых, раскрывая образ героини, критики описывают ее как «смущенную девицу, … её эмоции: печаль в глазах от безответной любви, отчаянно поникшие плечи, неуверенность в себе».
Но это скорее капризная и избалованная девушка из зажиточной семьи, которая привыкла получать то, что она хочет (о чем свидетельствуют дорогой покупной наряд, платок и ридикюль, который был характерен для городской жительницы, никак не крестьянской девушки). В конце 19 века, тем более в богатых семьях спутников жизни выбирали родители. А если героиня пришла за приворотным зельем, значит, девушка сама выбрала себе жениха, но он не отвечает ей взаимностью и она решила настоять на своем с помощью колдовства и магии. Однако грозный вид старца на картине, его поза, говорят об не особо ласковом приеме и поза героини, на мой взгляд, говорит о ее попытке справиться с негативными эмоциями и вежливо продолжить разговор.
Если рассмотреть символьный слой картины, то стоит обратить внимание на то, что данная работа написана через 20 лет после отмены крепостного права, и можно сказать, что герои картины представляют собой две различные эпохи крестьянства и России.
Старец – это прошлое. Его внешний вид (густая седая борода, шапка-ермолка, домотканая одежда, оберег на поясе), его покосившийся бревенчатый домик посреди леса, все ассоциируется с многовековой безвольной и безрадостной, трудной жизнью крестьян. Его занятие – знахарство и «колдовство» – показывает дремучесть и необразованность, веру в приметы и суеверия русского народа прошлого. Скорее всего, знания трав он получил от своей бабушки, «из уст в уста».
В противоположность ему – яркая, молодая, красивая девушка. Она это образ нового свободного крестьянства, имеюще- го возможность самостоятельно выбирать свою судьбу.
Хотя сам сюжет, эта история с приво- ротным зельем, говорит нам о наличие связи прошлого с настоящим; о том, что даже новое грамотное крестьянство (необразованные, неграмотные крестьяне не смогли бы стать зажиточными, а наряд героини говорит о богатстве ее семьи) в критические моменты обращается к старым традициям своих предков.
Окружающий героев пейзаж на картине также подчеркивает это противопоставление. Старец изображен на фоне темного дремучего леса, выполненного широкими мазками. Сам герой и его избушка как бы сливаются с этим пейзажем. Девушка же на картине изображена сидящей на бревне возле избушки, утопающей в зелени и цветах. Яркая зелёная растительность выписана детально. И два этих мира разделены диагональным представлением на картине.
Еще одна деталь пейзажа – это тропинка, наличие которой с одной стороны, го- ворит о том, что услуги старца пользуются популярностью. Но с другой, это художественное воплощение слов Добролюбова о
«луче света в темном царстве» и этот луч резко обрывается, наталкиваясь на стену мрака дремучего леса [5].
В заключение можно отметить, что внешний образ героини картины, подчиняясь законам модерна, относится к типичным женским образам той эпохи. Такая же «типизация», обобщенность свойственна и женским образам в живописи и графике Врубеля, Сомова и прочих мастеров модерна. Во всех этих работах показана как бы одна «сверх-женщина», предстающая в разных ипостасях: с одной стороны, это мифологический образ, «икона», олицетворяющая пороки или/и добродетели, а с другой – современная женщина. Такая двуипостасность образов женщин в искусстве модерна – один из моментов, символизирующих свойственное ему стремление к единству, целостности.
Список литературы Семиотика в изобразительном искусстве: читаем шедевры
- Гуревич В.С. Культурология: Учебник. - М., Гардарики, 2003. - 280 с.
- Panofsky E. Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst - "Logos", Bd. XXI, 1932.
- Дурылин С.Н. М.В. Нестеров в жизни и творчестве. - М.: Молодая гвардия, 1965. С. 241.
- Семенова-Тян-Шанская О.П. Жизнь "Ивана": очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний // Записки императорского русского географического общества по отделению этнография. Т. 39. 1914.
- Добролюбов Н.А. Темное царство // Современник. № VII. 1859.