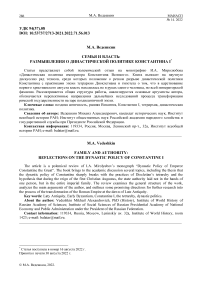Семья и власть: размышления о династической политике Константина I
Автор: Ведешкин М.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой полемический отзыв на монографию И.А. Миролюбова«Династическая политика императора Константина Великого». Книга выносит на научную дискуссию ряд тезисов, среди которых положение о резком разрыве династической политики Константина с практиками эпохи тетрархии Диоклетиана и гипотеза о том, что в царствование первого христианского августа власть находилась не в руках одного человека, но всей императорской фамилии. Рассматривается общая структура работы, анализируются основные аргументы автора, обозначаются перспективные направления дальнейших исследований процесса трансформации римской государственности на заре позднеантичной эпохи.
Поздняя античность, ранняя византия, константин i, тетрархия, династическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/14124746
IDR: 14124746 | УДК: 94(37).08 | DOI: 10.53737/2713-2021.2022.71.56.013
Текст научной статьи Семья и власть: размышления о династической политике Константина I
МАИАСП № 14. 2022
Семья и власть: размышления о династической политике Константина I
Сложная и противоречивая эпоха рубежа III—IV вв. н. э. охарактеризовалась коренной ломкой традиционных социально-политических институтов античного мира. Одним из элементов этого процесса явилась трансформация римской державы, к этому времени окончательно утратившей республиканские черты и оформившейся в качестве абсолютной монархии. В этой связи, предпринятое И.А. Миролюбовым изучение династической политики Константина I, с именем которого традиционно связывается окончательное закрепление новых форм государственного устройства, представляет несомненный интерес. Актуальность монографии очевидна. Широкий круг поднимаемых в работе вопросов, связанных с династической политики первого христианского августа, до сих пор не был разрешен ни в отечественной, ни в зарубежной историографии.
Монография основана на критике широкого круга источников (юридических документов, панегириков, нарративной традиции, нумизматики, эпиграфики и памятников изобразительного искусства), обзор которых оставляет сугубо положительное впечатление (Миролюбов 2021: 8—32). Автору удалось осветить и скрупулезно проанализировать значительный массив материалов, релевантных для темы исследования. В целом, высокой оценки заслуживает и проведенный И.А. Миролюбовым анализ исследовательской литературы (Миролюбов 2021: 33—50). Исследователь проработал множество трудов, в которых рассматривались различные вопросы династической политики Константина, начиная с XVII столетия и до наших дней. Вместе с тем вызывает некоторое недоумение отсутствие анализа (и даже упоминания) ряда значимых работ последних десятилетий. В их числе труды, посвященные отдельным членам августейшей фамилии1, исследования, освещающие этапы формирования династической политики Константина2, ключевые события истории династии3. Впрочем, количество работ, так или иначе затрагивающих царствование Константина I, поистине необъятно и учесть их все представляется едва ли возможным. В целом, И.А. Миролюбов достаточно хорошо ориентируется в научной традиции, как отечественной, так и зарубежной, прежде всего англоязычной, французской и немецкой. Историография не остается простым фоном — автор активно использует результаты научных споров. Вместе с тем подчас создается впечатление, что исследователь уделяет некоторым современным гипотезам меньшее внимание, чем они того заслуживают, и в ряде случаев избыточно подробно разбирает откровенно устаревшие концепции Ш. Дюканжа, С.-Л. Тиллемона, Э. Гиббона и Я. Буркхарта.
Первая глава посвящена истокам династической политики Константина, которую автор справедливо усматривает в эпохе Диоклетиана. Ее открывает параграф, освещающий формы организации и передачи власти внутри тетрархии (Миролюбов 2021: 52—61). Анализируя процесс привлечения Диоклетианом к власти своих соправителей (августа Максимиана Геркулия и цезарей Констанция Хлора и Галерия), автор приходит к выводу, что тетрархия была основана на меритократическом принципе — в императорскую коллегию включались наиболее подходящие и способные люди, которые должны были править на основании дружеского согласия. И.А. Миролюбов полагает, что браки Констанция Хлора и Галерия на дочерях августов «обнаруживали нелогичность» в построениях Диоклетиана, так как противоречили основному принципу оформления тетрархии (Миролюбов 2021: 60). При
МАИАСП № 14. 2022
этом исследователь, по сути, отмахивается (Миролюбов 2021: 59, прим. 191) от получившей широкое распространение гипотезы, согласно которой браки Констанция Хлора с дочерью Максимиана Геркулия Феодорой и Галерия с дочерью Диоклетиана Валерией были заключены до 289 г.4. Иными словами, будущие цезари Первой тетрархии, скорее всего, стали зятьями августов, по меньшей мере, за четыре года до кооптации в императорскую коллегию. Можно предположить, что впоследствии соправители еще более укрепили свои родственные связи — об этом, в частности, свидетельствует женитьба сына Максимина Геркулия Максенция на дочери Галерия Валерии Максимилле5. Более того, согласно смелому предположению Т. Барнса, первая жена Константина — Минервина могла быть родственницей (возможно, племянницей) августа Диоклетиана6. Иными словами, Первая тетрархия изначально основывалась в том числе и на принципах кровного родства, а следовательно, принятая Константином модель династической политики не представляла собой столь уж резкого разрыва с установлениями Диоклетиана.
Второй параграф первой главы (Миролюбов 2021: 61—77) посвящен отцу Константина — Констанцию Хлору. Интересно предположение автора о существовании некой конфронтации между Констанцием Хлором и прочими тетрархами. Особое внимание И.А, Миролюбов уделяет данным о несогласии цезаря Запада с фискальной и религиозной (гонения на христиан) политикой его соправителей, а также сообщениям о том, что сын Константина жил при дворе Диоклетиана и Галерия фактически на положении заложника. С одной стороны, сохранившиеся у Евсевия (Euseb., V. Const, I, 14), Евтропия (Eutrop., X, 1, 2) и, добавим от себя, Либания (Lib., Or., XVIII, 8; LIX, 15) рассказы о том, что Констанций I являлся противником тезаврирования, кажется, подтверждают выводы автора о неприятии западным цезарем фискальной политики Диоклетиана. С другой, в них можно видеть литературный топос, типичный при описании «хорошего» императора7. Спорной представляется и повторяемая автором идея о фактическом неучастии Констанция Хлора в Великом Гонении. Действительно, ограждая отца «боголюбивого августа» от обвинений в преследовании последователей новой веры, христианские авторы эпохи Константина говорили о том, что Констанций Хлор либо вовсе отказался от проведения репрессий против христиан (Opt., I, 22; Euseb., HE, VIII; V. Const, I, 13), либо же ограничивался разрушением их храмов (Lact., De Mort., XV, 7). Вместе с тем, в своем раннем труде «De martyribus Palaestinae» Евсевий все же включал Галлию в число территорий, на которых разворачивались гонения (Mart. Pal., XIII). Более того, последующая традиция сохранила имена ряда британских и галльских мучеников эпохи тетрархов8. Наконец, в сферу влияния Констанция скорее всего входила Испания9, а значит, руки подчиненных западному цезарю
МАИАСП № 14. 2022
Семья и власть: размышления о династической политике Константина I чиновников были обагрены кровью исповедника Осии Кордубского (Athan., Hist. Ar., 44) и мучеников, упомянутых в поэтическом цикле Пруденция «Peristephanon» (I; III; IV; VIII).
Несколько надуманным выглядит и приводимый автором довод, согласно которому скульптурные изображения Констанция I «отличаются ярко выраженными индивидуальными чертами» (Миролюбов 2021: 71, прим. 227), что якобы противоречит официальной иконографии тетрархии. Эти догадки автор, очевидно строит под впечатлением от хрестоматийных скульптурных композиций из Венеции и Рима, на которых образы тетрархов предстают совершенно деперсонифицированными (LSA 4; 840—841). Вместе с тем исследователь упускает из виду существование ряда портретов соправителей на которых их индивидуальные черты проступают довольно отчетливо10.
При этом выводы автора о том, что Констанций Хлор выделялся на фоне соправителей остальных своим уровнем образованности и особенностями карьеры (Миролюбов 2021: 68— 71), представляются вполне обоснованными. Не менее убедительным выглядят и приведенные исследователем аргументы в пользу того, что сын Констанция Константин фактически жил при дворе Диоклетиана на положении заложника (Миролюбов 2021: 65— 68). В целом, несмотря на спорность отдельных положений, гипотеза И.А. Миролюбова о существовании противоречий между Констанцием I и его соправителями, может стать основой для дальнейшего изучения личности и деятельности Констанция Хлора, а равно и для дискуссии о степени независимости цезарей в проведении внутренней политики.
В третьем параграфе (Миролюбов 2021: 77—85) речь идет о вступлении Константина на престол и эволюции методов легитимации его власти в первые годы правления. Автор считает, что, по меньшей мере, до 307 г. Константин пытался встроиться в систему тетрархии. Лишь после того, как ее принципы были грубо попраны императором Галерием, Константин стал склоняться в сторону чуждого тетрархии (а так ли это?)11 кровнородственного принципа наследования. Эта тенденция нашла отражение в его браке с дочерью Максимиана Геркулия Фаустой, а также в деификации Констанция Хлора. В четвертом параграфе (Миролюбов 2021: 86—102) рассматривается процесс конструирования Константином своей родословной, включавшей его отца — «божественного» Констанция Хлора, и «знаменитого предка» — императора Клавдия II Готского. При этом автор соглашается с господствующей в современной науке точкой зрения о второй генеалогической связи, как о мистификации.
Вторая глава посвящена участию в династических построениях Константина членов его семьи. В первом параграфе (Миролюбов 2021: 103—121) обсуждается статус матери императора. Особо пристальное внимание автор уделяет вопросу о формально-правовом статусе отношений Констанция I и Елены. Он приходит к выводу, что сам факт наличия (или отсутствия) между ними официального брака не влиял на положение Константина до его вступления на престол, так как тетрархи не делали различий между детьми жены и наложницы. Согласно любопытному предположению исследователя, невольным инициатором полемики вокруг матримониального статуса Елены стал сам Константин, пропаганда которого всячески педалировала «знатность» императора. Этим не преминул воспользовался его конкурент Максенций, объявивший своего противника незаконнорожденным. Судя по всему, критика попала в цель — вплоть до достижения
МАИАСП № 14. 2022
единовластия Константин старался держать фигуру матери в тени. Лишь став безраздельным владыкой римской державы (а, следовательно, и обезопасив себя от критики) август объявил брак своих родителей неоспоримым фактом и принялся возвеличивать свою мать, что выразилось в переименовании в ее честь ряда топонимов12 и присвоении ей титула августы.
Во втором параграфе рассматривается статус женщин императора Константина (Миролюбов 2021: 121—134). Автор приходит к мысли, что его первой «спутнице» Минервине, а затем и законной супруге Фаусте, в династических построениях августа отводилась исключительно роль матерей наследников императора. Сами по себе они не принимали сколь-либо заметного участия в политической жизни; что особенно примечательно в ситуации с Фаустой — официальной женой Константина с 307 г. Являясь дочерью августа Максимиана Геркулия, она служила залогом политического альянса между своим мужем и отцом. Более того, в перспективе, этот брак укреплял династическое положение младших сыновей Константина. Автор завершает рассказ о Фаусте обсуждением различных версий ее гибели в 326 г. и в целом соглашается с тем, что загадка ее смерти скорее всего никогда не будет разгадана13.
Параграф завершается анализом полемики о существовании у Константина Великого «другой женщины» (или женщин). По мнению И.А. Миролюбова, косвенные свидетельства источников, на основании которых некоторые исследователи предполагали, что у императора был ряд фавориток (одной из которых, возможно, была супруга патриция Оптата), являются порождением враждебной Константину языческой традиции (сообщения Юлиана Отступника, Либания, Зосима), а следовательно, заведомо недостоверными. В подтверждении своей точки зрения автор ссылается на изданные августом эдикты, предусматривавшие самые суровые кары за блуд и прелюбодеяние. С нашей точки зрения — не самый сильный аргумент. Август, которого при всем желании сложно заподозрить в излишней принципиальности, вполне мог бы и пренебречь положениями собственного законодательства. Quod licet Iovi, non licet bovi.
Третий параграф посвящен детям Констанция Хлора от второго брака, то есть единокровным братьям и сестрам Константина (Миролюбов 2021: 134—153). Автор показывает, что император использовал своих родственников как разменную монету в политической игре. Так семейная жизнь его сестер (Констанции и Анастасии) была принесена в жертву амбициям Константина: они были выданы замуж ради заключения временных политических союзов с августом Лицинием и сенатором Бассианом, соответственно, а затем овдовели по воле своего августейшего брата. Впрочем, как справедливо отмечает исследователь, их страдания были в некотором роде компенсированы — после достижения единовластия Константин окружил своих сестер почетом и даже называл в их честь города и общественные здания.
Имевшие благородное происхождение как по отцу, так и по матери братья Константина являлись его потенциальными соперниками в борьбе за власть. Более того, их, мягко говоря, недолюбливала мачеха — Елена. Все это делало их положение весьма шатким — в начале царствования своего брата Ганнибалиан Старший, Далмаций Старший и Юлий Констанций были отправлены в ссылку. Впрочем, впоследствии Константин смягчился, вернул братьев
МАИАСП № 14. 2022
Семья и власть: размышления о династической политике Константина I ко двору и формально признал их частью императорской фамилии. В этом отношении весьма убедительной выглядит гипотеза автора о том, что братья Константина были возвращены из изгнания не после смерти Елены (т.е. в конце 320-х гг.), как это традиционно считалось, а в начале 320-х или даже конце 310-х гг. (Миролюбов 2021: 148). Думается, что это предположение можно подкрепить несколькими аргументами. Во-первых, младшие братья Константина, несомненно, участвовали в виценаллиях своего августа в 326 г.14. Далее, сын Юлия Констанция Галл появился на свет в Италии в 325/6 г. (Amm., XIV, 11, 27) и был как минимум третьим ребенком15, рожденным в этом браке. Следовательно, не позднее 322 г. младший сын Констанция I женился на Галле — девице из знатнейшей сенаторской фамилии, возможно связанной родством с династией Северов16. Очевидно, этот брак был призван скрепить союз Константина со столичной аристократией. Иными словами, Юлий Констанций играл некоторую роль в политических конструкциях своего августейшего брата еще в период совместного царствования Константина и Лициния. Наконец, принятие ранней датировки для брака Констанция Хлора и Феодоры17 позволяет предположить, что к началу 310-х гг. единокровные братья Константина уже достигли возраста, позволявшего им участвовать в политической жизни18. Мы полагаем, что это обстоятельство дает основания считать упомянутого в «Origo Constantini» главу посольства к Лицинию (Anon. Val., I, 5, 14)19, префекта претория 324—327 гг. и консула 327 г.20 Флавием Юлием Констанцием21, а адресата эдикта от 19 января 321/4 г. (CTh., XII, 17, 1) — Далмацием Цензором22.
Третья глава посвящена организации Константином I принципов престолонаследия. В первом параграфе рассматривается карьера старшего сына императора — Криспа (Миролюбов 2021: 155—162). Автор приходит к выводу, что в период 324—326 гг. Константин склонялся к принципу единонаследия. В рамках этой схемы его наследником выступал Крисп, который зарекомендовал себя деятельным помощником отца и стал до некоторой степени самостоятельной политической фигурой. Эта мысль представляется достаточно спорной — как известно в 317 г. вместе с Криспом цезарем был провозглашен его единокровный брат Константин II (Cons. Const., s.a. 317), что, думается, противоречит выводу автора о том, что август видел в первенце единственного наследника. Так или иначе, карьера Криспа оборвалась в 326 г. — он был казнен при самых загадочных обстоятельствах.
Во втором параграфе автор обсуждает обстоятельства кооптации в императорскую коллегию сыновей Константина от брака с Фаустой (Миролюбов 2021: 162—172). Прежде всего он подробно останавливается на проблеме происхождения Константина Младшего и довольно убедительно доказывает, что гипотеза о том, что его матерью была некая наложница Константина, имя которой остается неизвестным, несостоятельна. Причины провозглашения цезарем Констанция II в 324 г. исследователь справедливо усматривает в
МАИАСП № 14. 2022
попытке Константина дать «своего» императора восточным провинциям, еще недавно находившимся под управлением Лициния. Представляется любопытной и идея, согласно которой приобщение Константа к императорской коллегии явилось ответом на мятеж Калокера. В третьем параграфе анализируется оформление схемы наследования в последние годы царствования Константина I и приобщение к императорской коллегии племянников августа. Автор оспаривает устоявшуюся в историографии точку зрения, о том, что, провозглашая Далмация Младшего цезарем, август готовил почву к частичному возвращению института тетрархии. И.А. Миролюбов резонно считает схему разделения империи 335 г. не окончательной. По его мнению, завершенную форму политическое завещание Константина должно было обрести лишь после намечавшейся на 337 г. персидской кампании, о чем, в частности, свидетельствует провозглашение его племянника Ганнибалиана «царем царей». Поход так и не состоялся по причине болезни Константина. Ситуация вынуждала умирающего императора либо признать права на власть всех участников императорской коллегии, либо только одного из них. Оба варианта были чреваты усобицей. В итоге Константин сознательно отказался от решения вопроса о власти и отошел в мир иной, не сделав никаких внятных распоряжений о судьбе престола, что, в свою очередь привело к политическому кризису лета 337 г., результатом которого стало истребление почти всего мужского потомства от второго брака Констанция Хлора.
Высоко оценивая труд И.А. Миролюбова, следует все же отметить, что он не лишен отдельных недостатков. К сожалению, автор отказался от рассмотрения ряда любопытных (и, думается, важных) вопросов истории Второй династии Флавиев, анализ которых мог бы украсить его работу. В частности, И.А. Миролюбов обошел вниманием проблему потомства цезаря Криспа и гипотезу о родстве будущей императрицы Юстины с династией Вторых Флавиев23. Думается, что обращение к этой проблеме могло бы пролить свет на причины исключительного матримониального ажиотажа вокруг самой Юстины, а также ее дочери (Галлы) и внучки (Галлы Плацидии). В монографии не рассматривается и любопытное предположение Ф. Шоссона, считавшему, что на одной из девиц дома Констанция Хлора был женат префект Аблабий24. Учитывая обыкновение Константина женить своих сыновей и дочерей на их кузенах и кузинах, эта гипотеза могла бы объяснить причины помолвки Константа II c дочерью Аблабия Олимпиадой (Amm., XX, 11, 3; Athan., Hist. Ar., 69), а равно и сообщения армянских источников о том, что эта девушка принадлежала к царскому роду (Faust. Byz., IV, 15; Mos. Chor., III, 21). Кроме того, представляется, что исследование могло бы выиграть и от обсуждения проблемы рецепции династической модели Константина его сыновьями, в частности, анализа подкрепляемой данными нумизматики, эпиграфики и юридических памятников гипотезы о претензиях Константина II на старшинство в императорской коллегии в 337—340 гг.25.
Далее, несмотря на то что автор широко привлекает иконографический материалу, в исследовании не представлены репродукции обсуждаемых гемм, камей и монетных типов императора Константина, которые, думается, могли бы послужить прекрасной иллюстрацией для ряда выводов И.А. Миролюбова. К числу «технических» недоработок можно также отнести оформление ссылок и библиографического списка. Исследователь постоянно использует «глухие» сноски (Указ. соч.; Op. cit.), что, учитывая в целом немаленький объем
МАИАСП № 14. 2022
Семья и власть: размышления о династической политике Константина I монографии, подчас затрудняет определение цитируемой работы. Но это полбеды. Иногда полное библиографическое описание нельзя найти даже в списке использованной литературы. К примеру, исследователь трижды ссылается на работу Х. Польсандера (Миролюбов 2021: 110, 163, 194), однако при этом ни разу не дает ее полного названия. При обращении к приведенному в конце книги списку литературы, обнаруживается, что ни одного труда этого автора там не значится26. Впрочем, в целом текст, монографии достаточно аккуратно вычитан и откорректирован. Орфографические и пунктуационные ошибки (бич многих новейших исследований) крайне редки27.
Давая общую оценку книге И.А. Миролюбова, необходимо отметить ее безусловный новаторский характер. Работу отличают концептуальная целостность, богатый фактический материал, благодаря которому большинство выводов выглядят весьма убедительно. Монография написана хорошим литературным языком. Автор смог удачно сочетать, с одной стороны, научность и строгость изложения, а с другой — определенную художественность повествования. Благодаря этому, монография, несмотря на многочисленные пассажи аналитического и теоретического характера, читается достаточно легко. Труд И.А. Миролюбова не лишен отдельных недочетов и спорных положений, которые, впрочем, блекнут на фоне очевидных достоинств его работы.
Список литературы Семья и власть: размышления о династической политике Константина I
- Миролюбов И.А. 2021. Династическая политика императора Константина Великого. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Циркин Ю.Б. 2010. Испания от античности к Средневековью. Санкт-Петербург: Филологический
- факультет СПбГУ; Нестор-История. Amerise M. 2006. Filostorgio e la morte di Costantino il Grande. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 55, 328—343.
- Baker-Brian N., Tougher S. (eds.). 2020. The Sons of Constantine, AD 337—361: In the Shadows of
- Constantine and Julian. Cham: Palgrave Macmillan. Barnes T.D. 1982. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge: Harvard University Press. Barnes T.D. 2010. Early Christian Hagiography and Roman History. Tübingen: Mohr Siebeck. Barnes T.D. 2011. Constantine: Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire. Chichester, West
- Sussex, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell. Bleckmann B. 2003. Der Bürgerkrieg zwischen Constantin II. und Constans (340 n. Chr.). Historia:
- Zeitschrift für Alte Geschichte 52, 225—250. Burgersdijk D. 2018. Constantine's Son Crispus and His Image in Contemporary Panegyrical Accounts. In: Burgersdijk D.P.W., Ross A.J. (eds.). Imagining Emperors in the Later Roman Empire. Leiden; Boston: Brill, 137—157.
- Callu J.-P. 2002. Naissance de la dynastie constantinienne. Le tournant de 314—316. In: Carrie J.-M., Testa R. L., Brown P. (eds.). Humana Sapit. Etudes d'Antiquite Tardive offertes a Lellia Cracco-Ruggini. Turnhout: Brepols, 111—120. Cara P. 1993. La successione di Costantino. Aevum 67, 173—180.
- Chantraine H. 1992. Die Nachfolgeordnung Constantins des Großen. Mainz; Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Chausson F. 2002. La famille du préfet Ablabius. Pallas 60, 205—230.
- Chausson F. 2007. Stemmata Aurea: Constantin, Justine, Theodose. Revendications Genealogiques Et
- Ideologie Imperiale Au IVS. Ap. J.c. Roma: L'Erma Di Bretschneider. Christol M., Sillières P. 1980. Constantin et la péninsule ibérique: à propos d'un nouveau milliaire. Revue des Études Anciennes 82, 70—80.
- Corcoran S. 2000. The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284—324. New York: Clarendon Press.
- de Ste. Croix G. 2006. Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy. New York: Oxford University Press.
- Di Maio M., Arnold D.W.-H., Arnold Fr. 1992. Per vim, per caedem, per bellum: A Study of Murder and Ecclesiastical Politics in the Year 337 AD. Byzantion 62, 158—211.
- Frakes R.M. 2005. The Dynasty of Constantine Down to 363. In: Lenski N. (ed.). The Cambridge Companion to the Age of Constantine. Cambridge Companions to the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press, 91—108.
- Garcia M.M. 2010. Saint Alban and the Cult of Saints in Late Antique Britain. Leeds, GB: University of Leeds (Institute for Medieval Studies).
- Heinen H. 1998. Konstantins Mutter Helena: de stercore ad regnum. Trierer Zeitschrift: für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete 61, 227—240.
- Hunt D. 2008. The Successors of Constantine. In: Cameron Av., Garnsey P. (eds.). The Cambridge Ancient History. Vol. 13. The Late Empire, AD 337—425. Cambridge: Cambridge University Press, 1—43.
- Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. 1971. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. I. A.D. 260—395. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jullian C. 1923. Questions hagiographiques: le cycle de Rictiovar. Revue des Études Anciennes 25, 367—378.
- Kent J.P.C. 1981. The Roman Imperial Coinage. Vol. VIII. The Family of Constantine I. London: Spink & Son Ltd.
- Klein R. 1979. Die Kämpfe um die Nachfolge nach dem Tode Constantins des Grossen. Byzantinische Forschungen 6, 101—150.
- Leadbetter B. 1998. The Illegitimacy of Constantine and the Birth of the Tetrarchy. In: Lieu S.N.C., Montserrat D. (eds.). Constantine. History, Historiography and Legend. London; New York: Routledge, 74—85.
- Leadbetter W.L. 2010. Galerius and the Will of Diocletian. London; New York, NY: Routledge.
- Lewis W. 2020. Constantine II and His Brothers: The Civil War of AD 340. In: Baker-Brian N., Tougher S. (eds.). The Sons of Constantine, AD 337—361: In the Shadows of Constantine and Julian. Cham: Springer International Publishing, 57—94.
- Lucien-Brun X. 1973. Constance II et le massacre des princes. Bulletin de l'Association Guillaume Budé 32, 585—602.
- Marasco G. 1993. Costantino e le uccisioni di Crispo e Fausta (326 d.C.). Rivista di filologia e di istruzione classica 121, 297—317.
- Maraval P. 2013. Les Fils de Constantin. Constantin II (337—340), Constance II (337—361), Constant (337—350). Paris: CNRS Editions.
- Marcos M. 2014. Constantine, Dalmatius Caesar, and the Summer of A.D. 337. Latomus 73, 748—774.
- Marcos M. 2019. Some Reflections on Constantine, Dalmatius Caesar, and CI 5.17.7. Phoenix 73, 184—189.
- Moreno Resano E. 2015. Las ejecuciones de Crispo, Licinio el Joven y Fausta (año 326 d.C.): nuevas observaciones. Dialogues d'histoire ancienne 41, 177—200.
- Mosig-Walburg K. 2005. Hanniballianus rex. Millennium — Jahrbuch 2/2005, 229—254.
- Nixon C.E.V., Rodgers B.S. 1995. In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyric Latini. Berkeley: University of California Press.
- Pohlsander H.A. 2004. The Emperor Constantine. London; New York: Routledge.
- Pohlsander H.A. 1984. Crispus: Brilliant Career and Tragic End. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 33, 79—106.
- Pohlsander H.A. 1995. Helena: Empress and Saint. Chicago, Ill: Ares Publishers.
- Ramscold L. 2012. Constantine's Vicennalia and the Death of Crispus. Nis and Byzantium XI, 409—456.
- Raschle C.R. 2013. Jean Chrysostome et les exempla tirés de l'histoire impériale récente. Dialogues d'histoire ancienne 8, 355—377.
- Rocco M. 2013. Fausta, Costantino e lo stuprum per vim. Rivista Storica dell'Antichità XLIII, 243—260.
- Rougé J. 1958. La pseudo-bigamie de Valentinien Ier. Cahiers d'histoire 3, 5—15.
- Sabbah G. 1992. Présences féminines dans l'histoire d'Ammien Marcellin: Les rôles politiques. In: Teitler H. C., den Boeft J., den Hengst D. (eds.). Cognitio Gestorum: The Historiographic Art of Ammianus Marcellinus. Amsterdam; New York: Royal Academy of Netherlands, 91—105.
- Wiemer H.-U. 1994. Libanios und Zosimos über den Rom-Besuch Konstantins I. im Jahre 326. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 43, 469—494.
- Wiemer H.U. 1994. Libanius on Constantine. The Classical Quarterly. New Series 44, 511—524.
- Wienand J. 2012. The Making of an Imperial Dynasty. Optatian's carmina figurata and the Development of the Constantinian domus divina (317—326 AD). Giornale Italiano di Filologia 3, 225—265.
- Williams S. 1997. Diocletian and the Roman Recovery. New York: Routledge.
- Woods D. 2004. The Constantinian Origin of Justina (Themistius, Or. 3.43b). The Classical Quarterly 54, 325—327.