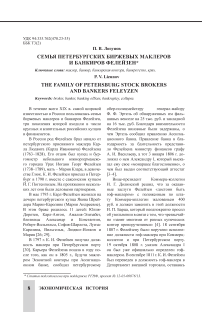Семья петербургских биржевых маклеров и банкиров Фелейзен
Автор: Лизунов Павел Владимирович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Жизненные истории
Статья в выпуске: 3 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере трех поколений петербургской купеческой семьи Фелейзен рассматривается процесс зарождения и развития частного банкирского промысла в дореволюционной России.
Маклер, банкир, банкирская контора, банкротство, крах
Короткий адрес: https://sciup.org/14723687
IDR: 14723687 | УДК: 94:335.762(470.23-35)
Текст научной статьи Семья петербургских биржевых маклеров и банкиров Фелейзен
В течение всего XIX в. самой широкой известностью в России пользовалась семья биржевых маклеров и банкиров Фелейзен, три поколения которой входили в число крупных и влиятельных российских купцов и финансистов.
В России род Фелейзен брал начало от петербургского присяжного маклера Карла Людвига (Карла Ивановича) Фелейзена (1763–1828). Его отцом был купец и бургомистр небольшого южноргерманско-го городка Урах Иоганн Георг Фелейзен (1738–1789), мать – Мария Клара, в девичестве Глюк. К. И. Фелейзен приехал в Петербург в 1790 г. вместе с саксонским купцом Й. Г. Поггенполем. На протяжении нескольких лет они были деловыми партнерами.
В мае 1795 г. Карл Фелейзен женился на дочери петербургского купца Якова Шрейдера Марии-Каролине (Марии Андреевне). В этом браке родилось 11 детей: Юлия-Доротея, Карл-Антон, Амалия-Элизабет, близнецы Александр и Константин, Роберт-Вильгельм, София-Шарлота, Луиза-Каролина, Вильгельм, Людвиг-Иоганн и Мария [26; 29].
В 1797 г. К. И. Фелейзен получил должность маклера при Петербургском порту [30]. Карьера Фелейзена пошла в гору после того, как он в 1805 г., будучи маклером Эсконтной конторы при Ассигнационном банке, сообщил петербургскому обер-полицмейстеру генерал-майору Ф. Ф. Эртель об обнаруженных им фальшивых векселе на 25 тыс. руб. и закладной на 16 тыс. руб. Благодаря внимательности Фелейзена виновные были задержаны, о чем Эртель сообщил правлению Ассигнационного банка. Правление банка в благодарность за бдительность представило Фелейзена министру финансов графу А. И. Васильеву, а тот 3 января 1806 г. доложил о нем Александру I, который высказал ему свое «монаршее благословение», о чем был выдан соответствующий аттестат [3–4].
Вице-президент Коммерц-коллегии И. Г. Долинский решил, что за оказанные заслуги Фелейзен «достоин быть гоф-маклером» с положенным по штату Коммерц-коллегии жалованьем 400 руб. и должен заменить в этой должности И. П. Барца, который неоднократно просил об увольнении в связи с тем, что чрезвычайно «занят многими от разных купеческих контор препоручениями» [4]. 18 сентября 1807 г. Фелейзену было поручено исполнение должности гоф-маклера при Коммерц-коллегии и при Петербургском порту. 19 октября 1808 г. указом Александра I он был уже официально определен гоф-маклером. В сентябре 1811 г. К. И. Фелейзен был переведен в должность гоф-маклера в Департамент внешней торговли, оставаясь гоф-маклером и при Петербургском порту. В июле 1818 г. Фелейзен также был определен гоф-маклером в Государственную комиссию погашения долгов [30; 33. Л. 237. Д. 2545. Л. 19–25].
Министр финансов Д. А. Гурьев неоднократно пользовался услугами Фелей-зена «по казенным денежным операциям, простирающимися на суммы более сорока миллионов рублей, а сверх того и по другим, в том числе и по секретным» [33. Д. 2545. Л. 19–25].
В 1806 г. К. И. Фелейзен изъявил желание принять «вечное российское подданство». Указом Александра I от 3 мая купец 1-й гильдии и присяжный маклер Фелейзен был приведен к присяге [30. Л. 144]. За беспорочную службу и заслуги в 1819 г. Фе-лейзен был награжден орденом св. Анны 3-й степени, а за три года до смерти, 28 января 1825 г., был пожалован в дворянское достоинство [25]. Дворянское депутатское собрание постановило на основании указа Правительствующего сената гоф-маклера К. И. Фелейзена с женой внести в первую часть дворянской родословной книги и в том выдать ему грамоту [9; 35]. 17 апреля 1830 г. вдова гоф-маклера К. И. Фелейзена Мария Андреевна подала прошение о причислении «к роду мужа» их сыновей, которое было удовлетворено, и они получили потомственное дворянство [29].
Сыновья К. И. Фелейзена пошли по стопам отца. Старший сын Карл (Антон) Карлович Фелейзен (1799–1875) в 1822 г. стал маклером при Петербургском порту, а в 1850 г., как и отец, – гоф-маклером Петербургской биржи. В этой должности он оставался целых 25 лет, до смерти.
Карл Карлович Фелейзен был женат дважды. В 1824 г. – он венчался с Гурли Барот, третьей дочерью купца Барота из Ревеля, а в 1840 г. – с Каролиной Карловной Ломан [29. Л. 37 – 38 об. 1]. Их сыновья Константин-Христиан (Константин), Карл и Николай также были фондовыми маклерами Петербургской биржи.
19 апреля 1853 г. по всеподданнейшему докладу министра финансов «об отлично усердных трудах» гоф-маклер и член Петербургского биржевого комитета потомственный дворянин К. К. Фелейзен был пожалован орденом св. Анны 3-й степени [36]. Он имел чин статского советника, был членом Английского собрания, пользовался влиянием и авторитетом в самых разных кругах столичного общества. Более чем за 50-летнее пребывание в маклерской должности К. К. Фелейзену пришлось пережить немало самых разных непростых событий, среди которых были экономические подъемы и спады, биржевые ажиотажи и кризисы. По словам его друга адмирала Ф. Д. Нордмана, Фелейзен посвятил себя «самому щекотливому вопросу – вопросу финансовому… который гнездится там в этом храме коммерции бирже, где дела колышутся как морская толчея: не поймешь откуда она идет, а выйти из нее надо». Чтобы «с честью» выходить из подобных затруднительных ситуаций, уверял Нордман, «надо быть богато вооруженным благоразумием, проницательностью и благонамеренностью», которыми отличался гоф-маклер Фелейзен [17].
Ф. Д. Нордман так описал обычный день Фелейзена: «С утра Карл Карлович куда-то едет, вероятно, чтобы ориентироваться состоянием финансового барометра. За тем большую часть дня тревожится на бирже... чтобы видеть его в полнейшей его деятельности, надо туда отправиться и им любоваться. То он там, окруженный несколькими, вероятно спекулятивными лицами, жестикулирует, шепчется, что-то решает. Не успеете оглянуться, он уже в другом конце зала, вероятно и там направляет он какой-нибудь вопрос своими опытными советами… Занявшись там несколько часов, едет он утомленный домой. Там распечатывает он ожидающие его крошечные записки... По одной предлагается ему афера в 10 000 фунт. стерл., по другой в 80 000 франков, а третья, главная, была уже в кабинете. Вот эти крошечные записочки… документально доказывают… какой доверенностью серьезных людей и государственных учреждений он пользуется. После вечерне- го, часто около 8-ми часов, обеда… Карл Карлович перестает быть финансистом. Он жадно пробегает афиши. Летит в театр в свою удобную ложу…» [17, с. 2].
Сам К. К. Фелейзен однажды собственные финансовые познания оценил следующим образом: «Кто ко мне прибегал за советом как устроить свои капиталы и мои советы принимал, то я могу на это сказать: если из них никто не обогащался, то никто и не разорялся» [17].
Второй сын Карла Ивановича Фелейзе-на, Константин Карлович Фелейзен (1804– 1870), был женат на дочери ревельского купца Ивана Пихлау Минне Вильгельмине (Вассе Ивановне) [11. Л. 12 об. – 14 об. 1].
К. К. Фелейзен более 22 лет состоял сотрудником (prokurist) банкирской конторы «Штиглиц и Кº». Сначала он был приказчиком в конторе Л. И. Штиглица, затем управляющим при его сыне А. Л. Штиглице. Фелейзен пользовался особым доверием и влиянием. По утверждению князя П. В. Долгорукова, после смерти отца «бароном Штиглицем управлял его товарищ, Константин Карлович Фелейзен, и всемогущее на г. Брока влияние г. Фелейзена было весьма выгодно для коммерческого дома Штиглица, но крайне не выгодно для России» [10].
Фелейзен был одним из пяти акционеров и директоров компании «Невская бумагопрядильная мануфактура», основанной Штиглицем, которому принадлежала половина всех акций [24]. В 1856 г. Штиглиц совместно с Фелейзеном и А. А. Преном на основе сахарного завода учредил общество под названием «Компания Екатерингофско-го сахарного завода». В 1864 г. завод сгорел, и Штиглиц выкупил все акции у компаньонов. Когда в 1859 г. Штиглиц решил закрыть свой банкирский дом, то процедура ликвидации была доверена К. К. Фелейзену и К. Фоссу.
Фелейзен и Штиглиц были компаньонами при строительстве и эксплуатации Петергофской железной дороги. Штиглиц являлся владельцем дороги, директорами ее были К. К. Фелейзен и А. Х. Таль, управляющим – В. И. Бурда. 23 июля 1864 г.
К. К. Фелейзен «в воздаяние трудов по сооружению железной дороги от Петербурга в Ораниенбаум, с ветвью в Красное село был возведен в потомственное баронское достоинство, и получил звание коммерции советника» [22]. В Русском биографическом словаре А. А. Половцова указано, что А. Л. Штиглиц «подарил» Петергофскую дорогу своему компаньону К. К. Фелейзену, который переуступил ее «за солидное вознаграждение обществу капиталистов» [8].
Фелейзены и Штиглицы были связаны не только деловыми, но и дружескими отношениями. Сын Л. И. Штиглица Николай в 1833 г. был поручителем со стороны жениха на свадьбе К. К. Фелейзена и Минны Вассы Пихлау [29. Л. 28, 32]. А. Л. Штиглиц был крестным отцом сына К. К. Фелейзе-на Евгения, родившегося 5 августа 1847 г. В 1845–1846 гг. Софья Карловна Фелейзен вместе с А. Л. Штиглицем и его супругой Каролиной Логиновной ездила за границу [18].
В конце 1860-х гг. К. К. Фелейзен при поддержке А. Л. Штиглица открыл в Петербурге на Большой Морской улице, 36 собственную банкирскую контору «Фелейзен и Кº».
По воспоминаниям государственного секретаря А. А. Половцова, К. К. Фелей-зен представал «ничтожным приказчиком в конторе у старика Штиглица», который «по ходатайству Штиглица-сына достиг более высокого положения, а в последствие сделался управляющим его делами». Благодаря щедрости барона А. Л. Штиглица К. К. Фелейзен приобрел значительное состояние, но за несколько лет до смерти «перессорился со своим благодетелем» [27]. Эта оценка Половцова могла быть вольно или невольно внушена ему Штиглицем, который не желал общаться с Фелейзеном в результате какой-то очень сильной обиды на бывшего помощника и компаньона. Возможно, разногласия возникли после продажи Петергофской железной дороги.
После смерти в 1870 г. барона К. К. Фе-лейзена согласно духовному завещанию его жене Вассе Ивановне отошла дача в
Петергофе, сыновьям Константину и Евгению – дом на ул. Большой Морской, в котором проживало семейство и помещалась банкирская контора. Все остальное свое недвижимое имущество (дом на Театральной площади и дом на ул. Большой Морской и набережной р. Мойки, в котором находилась гостиница «Франция») и весь капитал К. К. Фелейзен завещал в равных частях детям: сыновьям Константину и Евгению и дочерям Вассе Галл и Александре Брук. Пользование доходами со всего движимого и недвижимого имущества завещатель пожизненно предоставил вдове баронессе В. И. Фелейзен. Однако она от этого права отказалась, и все дети взамен обязались уплачивать матери пожизненно по 50 тыс. руб. каждый год.
Капитал семьи Фелейзен частично находился в банкирском деле, а частично – в домашней кассе. Капитал банкирского дома составлял 1 298 513 руб., а домашней кассы – 1 029 158 руб. Доля каждого составляла по 324 628 руб. Между наследниками был заключен товарищеский договор, по которому банкирский дом возглавил Константин Константинович Фелейзен (1843– 1888). Остальные сонаследники, Евгений и Васса, оставили в деле всю причитавшуюся им часть капитала, т. е. по 324 628 руб., а Александра – 200 000 руб. По договору они могли изъять свои доли, если от неудачных операций складочный капитал банкирского дома уменьшится на 20 %. Ведение и управление всем банкирским делом принадлежало Константину без всякого участия и вмешательства прочих вкладчиков, он же считался единственным хозяином дела, представителем фирмы и лицом, ответственным перед правительством и в сношении с частными лицами [1].
А. А. Половцов наследника охарактеризовал также не очень лестно. Он писал, что «это был человек чрезвычайно ограниченный и во всех отношениях посредственный» [22, с. 82–83]. Тем не менее в числе клиентов банкирского дома «Фелейзен и
Кº» насчитывалось до 30 титулованных фамилий, в том числе шесть светлейших князей, князья, маркизы, графы, виконты (князь Н. А. Лобанов-Ростовский, князь С. С. Гагарин, князь Н. Б. Юсупов и его жена княгиня Т. А. Юсупова, княгиня Н. Ф. Ливен, княгиня Л. Л. Урусова, граф И. А. Апраксин и др.), Государственный банк, Императорский яхт-клуб и другие учреждения [14; 34]. Не случайно поэт П. К. Мартьянов посвятил К. К. Фелезейну следующее двустишие:
Банкир тузов и львиц великосветских сфер,
За счет их – денди был, спортсмен и чуть не пэр [12].
В 1874 г. в банкирском доме «Фелейзен и Кº» была произведена «значительная покража» в размере 822 214 руб. Половцов называл сумму потерь в два раза больше – 1 600 тыс. руб., что было явным преувеличением [22]. Оказались расхищенными фонды, находившиеся на хранении, что значительно уменьшило основной капитал. Виновным в краже оказался один из приказчиков банкирской конторы – Гантов. Растраченная сумма была распределена между вкладчиками (К. К. Фелейзен, Е. К. Фелейзен, В. К. Галл – по 219 933 руб., А. К. Брук – 164 412 руб.) и исключена из капиталов банкирского дома [1]. В последующие годы дела банкирского дома шли также неблестяще.
30 января 1888 г. банкир К. К. Фелейзен неожиданно скончался в возрасте 45 лет*. Умер он в день похорон старого друга бельгийского посланника при русском дворе графа Гастона Эррамбо де Дюдзелле. В этот день в церкви св. Екатерины на Невском проспекте была назначена торжественная заупокойная обедня по умершему бельгийскому посланнику. Во время отпевания покойного многие заметили отсутствие в церкви барона К. К. Фелейзена, который был бельгийским консулом. На него были возложены обязанности проведения процедуры отдачи последнего долга покойному графу. Фелейзен прибыл в церковь к
11 часам, но, не заходя внутрь, вдруг почувствовал себя очень плохо; вернулся снова в карету и поспешил возвратиться домой на Большую Морскую улицу. Барон Фелей-зен уже поднимался по лестнице, как вдруг неожиданно упал и скончался от разрыва сердца [6; 15].
2 февраля тело барона К. К. Фелейзена было отправлено в Троице-Сергиеву пустынь для погребения в семейном склепе. На прощании с умершим присутствовали: великие князья Николай Николаевич и Петр Николаевич, князь Е. М. Романовский, герцог Лейхтенбергский и принц Александр Петрович Ольденбургский с супругой Евгенией Максимилиановной и сыном Петром Александровичем, присутствовали министр иностранных дел статс-секретарь Н. К. Гирс и многие другие высокопоставленные лица, а также представители дипломатического корпуса и семейство покойного. После литургии гроб был вынесен друзьями покойного, и траурная процессия отправилась на Балтийский вокзал, откуда экстренным поездом отбыли на станцию Сергиево, а затем в Сергиевскую обитель, где совершились отпевание и погребение [7].
Газета «Петербургский листок» сообщала, что, как выяснилось, никакого наследства покойный не оставил, а все лица, что-либо ему доверившие, потеряли свои вклады и деньги [12].
57 кредиторов банкира К. К. Фелейзе-на имели претензии на сумму 2 041 262 руб. Согласно балансу, составленному приостановившей платежи банкирской конторой, главными кредиторами фирмы были: граф А. В. Бобринский, вложивший 358 тыс. руб., О. Н. Бутенева – 300 тыс., Е. А. Опененгер – 218 тыс., граф Пален – 155 тыс., Н. К. Майбюр – 150 тыс., графиня де Карр – 135 тыс., князь В. А. Меншиков, А. Г. Хитрово и Л. Д. Миллер – по 100 тыс. руб., князь С. С. Гагарин – 90 тыс., князь А. А. Ливен – 63 тыс.; банкирские дома: Волкова с сыновьями – 70 тыс., И. Е. Гинц-бург – 81 тыс., Русский банк – 44 тыс., граф М. И. Хребтович – 62 тыс., и прочие –
670 тыс. руб. Акцептов в обращении находилось на 1 367 500 руб. Весь пассив (без биржевых потерь) составлял 40 595 000 руб., актив - 2 500 000 руб. [19].
В то же время в затруднительном положении оказался Русский банк для внешней торговли. Несколько дней по городу ходили «туманные и неопределенные» слухи о неблагополучном положении его дел. 16 февраля «Новое время» поместило информацию, полученную из достоверных источников, что действительно «банк несет весьма значительные потери по курсовым операциям» [13]. Банк выдал своим акционерам дивиденд за 1887 г., которого у него не было. Его и другие убытки пришлось покрывать из запасного капитала, в результате чего большая его часть оказалась потерянной. В первый момент эти вести произвели неслыханный переполох и послужили сигналом к биржевой панике. Однако складочный капитал оказался незатронутым. Агония Русского банка продолжалась целую неделю, с 14 по 21 февраля, и разрешилась лишь после приобретения русских ценностей «на берлинской бирже одним из перворазрядных тамошних банкирских домов».
Следом за банкротством «Фелейзен и Кº» и проблемами Русского для внешней торговли банка последовал крах банкирской конторы «Шаскольский и Кан». Газета «Новое время» 17 февраля сообщала: «И без того безрадостное положение сегодня усугубилось прекращением платежей здешней фирмы Шаскольский и Кан. Фирма эта никогда не была значительна, а потому убытки, которые причинены ее несостоятельностью, не могут быть особенно велики. Говорят, что прекращение платежей является только временным и что администрации, которую предложено учредить, не особенно сложно будет восстановить дело и рассчитаться с заинтересованными. Таким образом, самый факт является далеко не таким значительным, но влияние, которое он произвел, положительно паническое. После вчерашних разговоров о Русском банке – сегодня несостоятельность банкирской конторы произвела ужасное впечатление и падение курсов приняло размеры, которые положительно ничем не могут быть оправданы» [5]. Наибольшие претензии к банкирскому дому «Шаскольский и Кан» предъявили Deutsche Bank, Национальный банк в Берлине, С. Блейхредер в Берлине, С.-Петербургский учетный и ссудный банк. На основании биржевых сведений кредиторы приостановившей свои платежи банкирской фирмы «Шаскольский и Кан» в Петербурге могли рассчитывать на удовлетворение в 15 коп. на рубль [2; 20; 21].
Еще ряд других столичных банкирских контор переживали серьезные трудности. В феврале 1888 г. Петербургскую биржу охватила паника в связи с крахом ряда банкирских домов. Общественность и обыватели тоже были встревожены. Опасения сложившейся финансовой ситуацией высказал писатель М. Е. Салтыков-Щедрин в письме к Н. А. Белоголовому от 21 февраля 1888 г.: «У нас здесь крахи, крахи и крахи. Лопнул Фелейзен, а за ним начала лопаться мелкота. Вчера – наш банкир, Стефаниц, но, к счастию, бумаг наших у него не было, а только застраховали билеты внутр<еннего> займа. Рубль стоит менее двух франков, – просто хоть не живи. Лопнул также банк Внешней торговли, – и за ним, наверное, потянется целая свита» [28].
15 марта 1888 г. в Комитете министров слушалось представление министров юстиции и финансов об учреждении администрации по делам банкирского дома К. К. Фелейзена [32]. Вдова банкира возбудила ходатайство об учреждении опеки над имуществом и делами покойного мужа барона Фелейзена. Просительница мотивировала ходатайство тем, что в случае его неудовлетворения банкирский дом «Фелей-зен и Кº» будет вынужден объявить себя несостоятельным должником. Учреждение опекунского управления над имуществом и делами умершего супруга Баронесса Фе-лейзен связывала исключительно с целью ограждения интересов кредиторов.
Однако в петербургских газетах появились публикации, в которых сообщалось, что, по слухам, «мысль об учреждении опеки не встречает сочувствия ни в Министерстве юстиции, ни в Министерстве финансов, как в виде отсутствия юридических оснований для этого, так и с точки зрения коммерческих интересов и обычаев» [16].
По просьбе вдовы барона министр юстиции Н. А. Манасеин подготовил доклад для Александра III с соображениями «о способе, коим представлялось бы удобнее помочь лицам, могущим пострадать при ликвидации дел покойного барона Фелейзена» [19]. В нем Манасеин объяснял, что в представленном при всеподданнейшем прошении балансе общая стоимость имущества, оставшегося после смерти барона Фелейзена, показана в размере 3 878 007 руб. и приблизительно такой же суммой определен его долг, а именно 3 871 886 руб. Между тем из отзыва министра финансов И. А. Вышнеградского, с которым обсуждалась данная проблема, следовало, что «в означенном балансе стоимость некоторых имуществ определена частью гадательно, а по тому баланс этот не может быть принят во внимание при исчислении ценности имущества, могущего быть обращенным на удовлетворение долгов барона Фелейзена». Реальная стоимость имущества барона Фелейзена, по подсчетам Министерства финансов, составляла 2 134 792 руб., а, следовательно, дефицит равнялся 1 737 162 руб. При этом дефиците кредиторы умершего банкира могли, по заключению министра финансов, рассчитывать на получение претензий до 55 % на кредиторский рубль [19. Л. 137, 138].
Положение дел фирмы Фелейзена, по уверению И. А. Вышнеградского, давало кредиторам по закону право принять непосредственное участие в ликвидации и указывало на необходимость учреждения администрации с целью точного определения состава и стоимости имущества должника, а также постепенного и равномерного удовлетворения его кредитов. Принятие же каких-либо других мер для оказания помощи кредиторам барона Фелейзена и ограждения их интересов представлялось, по мнению Вышнеградского, невозможным [19. Л 137, 138].
Вместе с тем некоторые из кредиторов покойного банкира, владевшие большинством по сумме претензий наличных кредитов (а именно 57 кредиторов, имевших претензий на 2 041 262 руб. из 2 351 858 руб.), со своей стороны, вслед за подачей вдовою всеподданнейшего прошения об учреждении опекунского управления обратились в Министерство юстиции с прошением, в котором заявляли, что желают в соответствии со своими интересами, чтобы по делам барона Фелейзена было учреждено кредиторское управление или администрация. По их мнению, установление администрации более соответствовало их интересам, чем учреждение опекунского управления.
Внося настоящее дело по высочайшему повелению, состоявшемуся 2 марта 1888 г., в Комитет министров, Н. А. Манасеин находил, что по силе действующих законов об администрациях по делам лиц торгового звания они учреждаются, когда изъявляется согласие большинства кредиторов должника по размерам долговой суммы и когда дефицит имущества должника не превышает 50 % [19. Л. 140–141]. В рассматриваемом случае все требуемые условия имелись в наличии. Однако для учреждения по делам барона Фелейзена администрации в общем порядке препятствием служило то обстоятельство, что наследники умершего не изъявляли желание принять наследство, оставшееся после покойного. Поэтому кредиторы были лишены возможности представить в Петербургский биржевой комитет баланс, подписанный должником, что являлось одним из условий для учреждения администрация [19. Л. 142].
Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, министр финансов Вышнеградский признал, что учреждение администрации над имуществом барона Фелейзена наиболее отвечает интересам кредиторов, нежели установление по делам умершего опеки. По существующему закону главной задачей администрации являлось «приведение в известность имущества должника» и постепенное, по возможности полное, удо- влетворение претензий кредиторов. Принятие каких-либо других мер для ограждения интересов кредиторов Фелейзена, по мнению Вышнеградского, являлось неприемлемым. Манасеин также считал необходимым учредить при Петербургском коммерческом суде администрацию над имуществом и делами умершего банкира Фелейзена [19. Л. 143–144].
На основании этих объяснений Комитет министров полагал, что правильнее всего было бы предоставить кредиторам предварительно с учреждением администрации подвергнуть составленный баланс тщательной проверке, с тем чтобы от их усмотрения зависело разрешение вопроса об администрации для ликвидации дел умершего барона Фелейзена. Посему Комитет министров полагал поручить министру юстиции сделать через Петербургский коммерческий суд распоряжение о безотлагательном созыве наличных кредиторов банкира Фелейзена, предоставить им на рассмотрение баланс, составленный управляющим банкирской конторой Фе-лейзена, учредить постановлением большинства кредиторов администрацию из своей среды над имуществом и делами умершего барона К. К. Фелейзена [19. Л. 138–139].
24 марта 1888 г. в зале Петербургского коммерческого суда состоялось общее собрание кредиторов банкирского дома «Фе-лейзен и Кº», созванное согласно высочайше утвержденному положению Комитета министров от 17 марта для учреждения администрации над имуществом и делами покойного банкира с целью их ликвидации. Но собрание к назначенному часу прибыли около 50 кредиторов, в том числе богатый предприниматель, действительный статский советник Ю. С. Нечаев-Мальцев, граф А. В. Бобринский, несколько генералов, присяжные поверенные Э. Б. Банк, Л. А. Гантовер, Б. Б. Дорн и др. Председателем единогласно был избран Нечаев-Мальцев, претензия которого превышала 500 тыс. руб. По предложению председателя было решено избрать шесть членов администрации. После долгих подсчетов голосов, поскольку считали не только голоса, но и суммы претензий, в администрацию вошли: Банк (около 2 200 тыс. руб.), Фосс, Вахтер, Дорн и Гинтер (все свыше 2 млн руб.) [14]. Администрация, учрежденная по делам умершего барона К. К. Фелейзена, просуществовала более десяти лет, до конца 1890-х гг. Однако, не смотря на все ее старания, полностью, «рубль на рубль», удовлетворить требования кредиторов не удалось.
После краха семейного банкирского дома и понесенных значительных финансовых и имущественных потерь последующие поколения семьи Фелейзен больше не пытались заниматься частным банкирским промыслом. Некоторые из них продолжили традиционную семейную деятельность маклеров на Петербургской бирже, некоторые предпочли более престижную и спокойную чиновничью карьеру на государственной службе, не желая продолжать рискованную банкирскую деятельность.
Список литературы Семья петербургских биржевых маклеров и банкиров Фелейзен
- Администрация по делам барона К. К. Фелейзена, во исполнении общего собрания гг. кредиторов барона К. К. Фелейзена… -СПб., 1896.
- Акт уполномочия данный администраторам, избранным по делам банкирского дома «Шаскольский и Кан». -СПб., 1888. -С. 1-3.
- Аттестат//РГАДА. -Ф. 276. -Оп. 5. -Д. 2554. -Л. 2 -3 об.
- Аттестат//РГИА. -Ф. 643. -Оп. 2. -Д. 2544. -Л. 143 -143 об.
- Биржевая хроника//Новое время. -1888. -17 (29) февр.
- Биржевые ведомости. -1888. -4 (16) февр.
- Биржевые ведомости. -1888. -1 (13) февр.
- Бобринский А. А. Дворянские роды. -Т. 2. -СПб., 1890. -С. 708.
- Грамота//РГИА. -Ф. 643. -Оп. 2. -Д. 2544. -Л. 240.
- Долгоруков П. В. Правда о России, высказанная князем Петром Долгоруковым/П. В. Долгоруков. -Paris, 1861. -Ч. 2. -С. 89.
- Мартьянов П. К. Цвет нашей интеллигенции. Словарь-альбом русских деятелей XIX века, в силуэтах, кратких характеристиках, надписях к портретам и эпитафиях/П. К. Мартьянов. -СПб., 1891. -С. 219.
- Некролог//Петерб. листок. -1888. -2 февр.
- Новое время. -1888. -16 (28) февр. -№ 4299.
- Новости и биржевая газета. -1888. -25 марта.
- Новости и биржевая газета. -1888. -31 янв.
- Новости и биржевая газета. -1888. -7 фев.
- Нордман Ф. Д. Несколько доброжелательных слов по случаю пятидесятилетнего юбилея достопочтенного гоф-маклера Карла Карловича Фелейзена/Ф. Д. Нордман. -СПб., 1872. -С. 1.
- О заграничных паспортах//РГИА. -Ф. 1286. -Оп. 9. -Д. 1216. -Л. 1 об.
- Особый журнал Комитета министров 15 марта 1888 г. об учреждении администрации по делу банкирского дома Фелейзена//РГИА. -Ф. 1263. -Оп. 1. -Д. 4650. -Л. 136
- Лизунов П. В. Санкт-петербургская фондовая биржа и экономический подъем россии в конце xix в./П. В. Лизунов//Экономическая история -2010. -№ 2. -С. 54-61.
- Петербургский листок. -1888. -2 (14) марта.
- Половцов А. А. Дневник государственного секретаря/А. А. Половцев. -Т. 2. -М., 2005. -С. 82-83.
- Предложение//РГАДА. -Ф. 276. -Оп. 5. -Д. 250. -Л. 1.
- Протокол заседания правления компании Невской бумагопрядильной мануфактуры 15 марта 1855 г.//ЦГИА СПб. -Ф. 1435. -Оп. 3. -Д. 4. -Л. 14 об.
- РГИА (Рос. гос. ист. арх). -Ф. 1343. -Оп. 51. -Д. 456. -Л. 104 -104 об.
- Родословная и доказательства о дворянстве рода Фелейзена//РГИА. -Ф. 1343. -Оп. 51. -Д. 456. -Л. 104-104 об.
- Русский биографический словарь. -СПб., 1911. -Т. 23. -С. 426.
- Салтыков-Щедрин М. Е. Письма 1884-1889/М. Е. Салтыков-Щедрин//Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: в 20 т. -М., 1977. -Т. 20.-С. 403-404.
- Справка//ЦГИА СПб. -Ф. 536. -Оп. 6. -Д. 1086. -Л. 11 об.
- Указ его величества//РГИА. -Ф. 643. -Оп. 2. -Д. 2544. -Л. 142 -142 об.
- Указ его императорского величества. Рапорт Фелейзена//РГАДА. -Ф. 276. -Оп. 5. -Д. 2554. -Л. 6-7.
- Учреждение администрации по делу банкирского дома Фелейзен 15 марта 1888 г.//РГИА. -Ф. 1263. -Оп. 1. -Д. 4650. -Л. 135-149.
- Формулярный список о службе гоф-маклера Фелейзена//РГИА. -Ф. 643. -Оп. 2. -Д. 2544. -Л. 235 об. -237.
- ЦГИА СПб. -Ф. 2091. -Оп. 1. -Д. 1. -Л. 1-30.
- ЦГИА СПб. -Ф. 536. -Оп. 6. -Д. 1086. -Л. 11 об. -12.
- ЦГИА СПб. -Ф. 852. -Оп. 1. -Д. 736. -Л. 1.