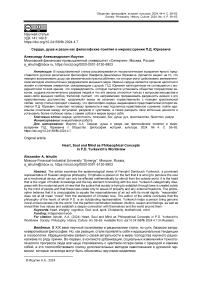Сердце, душа и разум как философские понятия в мировоззрении П.Д. Юркевича
Автор: Ишутин А.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье рассматриваются гносеологические воззрения яркого представителя русской религиозной философии Памфила Даниловича Юркевича. Делается акцент на то, что неверно воспринимать душу как механическое приспособление, на которое могут действовать математическим методом исключительно раздражители внешнего мира. Именно сердце является органом целостного знания и ключевым элементом, связывающим с душой. П.Д. Юркевич категорически не соглашается с модернистской точкой зрения, что справедливость, которую пытается установить общество посредством законов, создана исключительно разумом людей и что эти законы относятся только к вопросам имущества и каких-либо внешних свобод. Философ считает, что неприемлемо приравнивать разумность деяния к его нравственному достоинству: «разумный» вовсе не означает «нравственный» с позиции христианской любви. Автор статьи приходит к выводу, что философия сердца, выдающимся представителем которой является П.Д. Юркевич, помогает человеку привнести в мир подлинное нравственное сознание, найти идеальное сочетание между интуицией, разумом и чувствами, а также раскрыть свои истинные ценности и установить более глубокую связь с самим собой и миром вокруг себя.
Сердце, целостность, познание, бог, душа, дух, христианство, братство, разум
Короткий адрес: https://sciup.org/149145010
IDR: 149145010 | УДК: 141:140.8 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.7
Текст научной статьи Сердце, душа и разум как философские понятия в мировоззрении П.Д. Юркевича
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия, ,
Moscow Financial-Industrial University “Synergy”, Moscow, Russia, ,
Во-вторых, рационализм наложил существенные ограничения на объяснение всего многообразия человеческого познания. Данные ограничения коснулись интуиции, духовных аспектов, чувств и даже эмоций. Иррационализм же, в свою очередь, предполагал значимость этих способов познания. Наконец, усиление интереса к иррационализму было в каком-то смысле попыткой поиска гармонии в погоне за пониманием истинной сущности человеческого существования. Таким образом, в контексте доминирования научного рационализма иррационализм становится актуальным как некая альтернативная перспектива в понимании разнообразия человеческого опыта.
В период быстрого научно-технологического прогресса многие люди стали испытывать гнетущее разочарование в погоне за материальным успехом и внешней практической пользой. Философия сердца, как разновидность, собственно, иррационализма в гносеологии, предложила ту самую альтернативную перспективу, акцентируя внутреннюю гармонию и значимость именно духовных ценностей. Наконец, интерес к сердечному знанию мог быть вызван поиском баланса между рациональным мышлением и эмоциональным благополучием.
Сердце как концентрат духовной жизни . Яркий русский представитель философии сердца Памфил Данилович Юркевич (1826–1874) считал, что неуместно воспринимать душу как механическое приспособление, на которое могут действовать математическим методом исключительно раздражители внешнего мира. Неверно рассматривать душу только во времени: если мы воспринимаем её в вечности, то говорить о какой-либо математической точности просто неуместно, ведь речь идет не о паровой машине. Душевное состояние невозможно подвергнуть математическому расчёту. И это настроение души связано как раз с целостной жизнью духа. Именно сердце является органом такой целостности и ключевым элементом, связывающим с душой. Отсюда и необходимо, согласно П.Д. Юркевичу, «блюсти свое сердце» (Юркевич, 1990: 84): на этом настаивает христианское учение.
Сердце, по П.Д. Юркевичу, – это своего рода концентрат духовной жизни человека, из которого формируются наклонности, намерения и размышления. Отличия и особенности человеческой природы, которые проявляются в индивидуальной душе при одинаковых обстоятельствах, определяются тем, что они несводимы к какой-либо математической формуле, а «опираются» на уникальную душу, иначе личностное начало в человеке отсутствовало бы. Человек представляет собой особое существо, которое отличается от всех других благодаря своему самосознанию. Это самосознание открывает ему уникальные мысли, чувства и желания, которые не применимы к каждой душе, но только к его собственной (Юркевич, 1990: 91).
В процессе изучения человеческой психики учёные пытаются использовать теоретические обобщения, которые не всегда отражают реальную сложность и разнообразие человеческой души. П.Д. Юркевич предлагает исследовать необычные и не соответствующие общим законам явления прежде всего обособленно, не прибегая к общим законам именно по той причине, что душа работает не стереотипно, не как автомат. Философ предлагает аналогию с рекой, отмечая, что, конечно, можно измерить её ширину и глубину по общим правилам, но при движении по реке мы можем столкнуться с непредсказуемыми водными вихрями и быстрыми изменениями, которые не всегда поддаются общим правилам. Это своего рода аллегория того, что мышление о человеческой душе также должно учитывать необычные и сложные проявления человеческого поведения, а не только стремиться к установлению общих законов (Юркевич, 1990: 92).
Сердце в проекции социума . В социальную жизнь именно через глубину человеческого естества, именно через сердечное знание в точках «непредсказуемых водных вихрей» приходят подлинные ценности. Данный подход применительно к историческому процессу разовьёт позже русский религиозный философ В.Ф. Эрн. Он считал, что именно моменты исторической «прерывности», «внезапности» позволяют людям достичь нового уровня смыслов и ценностей. Вся природная гармония преображается, и в новом мире человек обретает свободу. Такое понимание реальности позволяет людям в глубине сердец видеть настоящее и будущее как единое целое и определяет христианское представление о подлинном прогрессе: «то, что произойдет в будущем, вечно в онтологическом смысле» (Эрн, 2000: 237).
В своё время великий русский поэт и писатель А.С. Пушкин, поднимая в одной из своих публицистических статей тему философии истории и рассуждая о том, что на Россию абсолютно неприемлемо накидывать исторические схемы и формулы Западной Европы, писал так: «Историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия провидения» (Пушкин, 1949: 127).
Именно в данном контексте необходимо утверждать место и возможности научного знания по отношению к божественному озарению, в том числе в понимании исторического процесса. Так, согласно П.Д. Юркевичу, однажды произошло знаковое историческое событие, которое, согласно сведениям, должно быть признано реальным, но оно не вписывается в так называемые общие законы, которые используются для понимания социальных процессов (Юркевич, 1990: 92).
Сердце и логическое мышление . В плоскости соединения сердца и любви лежит представление о творении мира. Современная философия, по П.Д. Юркевичу, подменяет сердечное воодушевление безучастным пониманием явлений, отсюда и странное понимание акта творения как акта логической необходимости, без любви и воли. Проблема такого понимания и заключается в том, что суть души воспринимается как исключительно мышление. Однако совершенство мышления не есть совершенство человеческого духа. Первое категорически не исчерпывает второго. То есть человека нельзя сводить только к мышлению (Юркевич, 1990: 87).
П.Д. Юркевич, рассматривая сердце как орган познания (Ишутин, 2022), постоянно ищет подтверждения в евангельских текстах. В частности, понимание тайны воскресения приходит ученикам Иисуса Христа именно через сердце, а не разум. Сердце предшествует разуму и логическим суждениям в познании истины. Аналогичные ситуации вполне могут произойти с каждым человеком в течение жизни, когда в сложные жизненные моменты невозможно выйти из затруднения с помощью логических операций, и тогда сигналы сердца оказываются гораздо эффективнее (Юркевич, 1990: 85).
Философ и поэт Д.С. Мережковский описал сердце как центр человеческого естества в стихотворении «Детское сердце». Лирический герой чувствует безграничную тоску, и такое состояние преодолевается только через сердце, как инструмент связи с Богом:
И словно незримый слетал утешитель,
И с ласкою тихой склонялся ко мне;
Не знал я, то мать или ангел-хранитель,
Ему я, как ей, улыбался во сне.
Безумье иль мудрость, – не знаю, но чаще,
Всё чаще той сладостью сердце полно,
И так, – что чем сердцу больнее, тем слаще,
И Бога люблю и себя, как одно.
(Мережковский, 1990: 547–548)
Синтезируя философский взгляд на природу человека и его способность к духовному развитию, рассуждая о природе души, П.Д. Юркевич приходит к выводу, что душа представляет собой свет, но также она и субъект, который сам пронизывается светом и обладает многочисленными духовными дарованиями. Для этих дарований Бог установил законы через свой творческий замысел. Это подразумевает, что духовные дарования имеют свои основания, которые присущи самой природе человека. Духовная жизнь вспыхивает в тайне глубин, далёких от нашего обыденного восприятия. В этом смысле для П.Д. Юркевича становится очевидным христианский взгляд на человеческий ум как на высокую ступень познания, но явно не как на корень, источник, основание духовности человека (Юркевич, 1990: 87).
По П.Д. Юркевичу, в сердце человека есть этот источник для явлений, которые не подчиняются общим законам или понятиям. Можно обсуждать лишь бытовые, обычные, сиюминутные явления душевной жизни, потому что эти общие законы как раз могут объяснить такие явления. Если же мы сталкиваемся с необычными феноменами, то должны сначала исследовать их пер-вореальность, не подменяя её общими законами, потому что никто не доказал, что душа подчиняется этим законам механически, как совершенно инертная субстанция. Необычные явления происходят в особых обстоятельствах, а мы можем наблюдать их только после их возникновения, не воспринимая вначале, из какой глубины они появились и по каким траекториям происходили эти движения до проявления данного феномена вовне (Юркевич, 1990: 91–92).
Этические аспекты соотношения сердца и разума . П.Д. Юркевич категорически не соглашается с модернистской точкой зрения, что справедливость, которую пытается установить общество посредством законов, создана исключительно разумом людей и что эти законы относятся только к вопросам имущества и каких-либо внешних свобод. Сторонники такой позиции настаивают, что сердце и разум функционируют как бы автономно друг от друга: сердцу абсолютно «неинтересны» эти законы разума. Никакого внутреннего, «сердечного» обоснования у них нет и быть не может, а есть только социальная целесообразность, сглаживание конфликта интересов и распределение выгоды.
Философ считает, что категорически неприемлемо приравнивать разумность деяния к его нравственному достоинству: «разумный» вовсе не означает «нравственный» с позиции христианской любви. Экстатическое устремление творить добро выше с этической точки зрения, чем разнообразные нравоучительные конструкции. Такие расчётливые конструкции, соответствуя правилу «поступай разумно», часто приводят к негативным и даже унизительным последствиям для человечества.
Причины такого этического сдвига, по мнению П.Д. Юркевича, нужно искать в гносеологических основаниях. Нравственность невозможна без подвига, подлинный ум невозможен без убеждения. Односторонность рациональной философии приводит к тому, что базовые начала духовной жизни изымаются из глубины сердца и переносятся в двусмысленную сферу среднестатистического, безликого разума.
Если делать что-то только из целесообразных побуждений, то это даёт некое чувство специфического удовлетворения, которое находится где-то посередине между самым настоящим нравственным поступком и буйством необузданного низа. Многие считают данное состояние идеальным с точки зрения морали. Но такой «нейтралитет» неприемлем для П.Д. Юркевича, так как он противен духу христианства с подвигами и жертвами, а напоминает состояние, обозначенное в «Откровении Иоанна Богослова», когда человек «ни студенъ ни теплъ, когда он имеет имя, яко живъ, а мертвъ есть» (Откр. 3:1).
Спустя полвека гений русского Серебряного века Николай Гумилёв выразит своё категорическое неприятие такого нравственного нейтралитета в поэтической форме:
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,
Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: «Вставай!»
(Гумилёв, 1922: 19).
Заключение . Философия сердца остаётся актуальной в современном мире по нескольким причинам. Во-первых, она сосредотачивается на нравственной (причём в самом глубинном смысле) сущности человека, что актуально в контексте поиска смысла и ценностей в современном мире, мире уже даже не жёсткой классической рациональности, а постмодернистской парадигмы. Во-вторых, она подчёркивает важность эмпатии, сострадания и уважения к другим людям как субъектам, что является важным аспектом в мире межличностных, социальных и политических конфликтов.
Кроме того, в современном мире растёт осознание важности внутреннего баланса, психологического благополучия и гармонии, понимания самих себя, что также актуализирует важность раскрытия в себе «сердечного знания». Таким образом, философия сердца продолжает быть актуальной не только с философической, но и с психологической стороны.
Философия сердца способствует раскрытию внутренней сущности человека именно через акцент на внутренние принципы и истоки взаимоотношения с окружающими, внутреннюю душевную гармонию. Она также помогает человеку привнести в мир подлинное нравственное сознание (Долгих и др., 2024: 54), найти идеальное сочетание между интуицией, разумом и чувствами, а также раскрыть свои истинные ценности и установить более глубокую связь с самим собой и миром вокруг себя.
Список литературы Сердце, душа и разум как философские понятия в мировоззрении П.Д. Юркевича
- Гумилёв Н.C. Костёр: cтихи. Берлин; СПб.; М., 1922. 58 c.
- Ишутин А.А. Сердце как орган познания целого в философии П.Д. Юркевича // Общество: философия, история, культура. 2022. № 12. С. 68-71. DOI: 10.24158/fik.2022.12.10 EDN: QZFVTL
- Мережковский Д.С. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1990. Т.4. 671 c.
- Обществознание: учебник / Ф.И. Долгих [и др.]; под ред. Ф.И. Долгих. М., 2024. 556 с. DOI: 10.37791/978-5-4257-0587-7-2024-1-556 EDN: VREXQE
- Пушкин А.С. О втором томе "Истории русского народа" Полевого // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 11. Критика и публицистика, 1819-1834. М.; Л., 1949. С. 125-127.
- Эрн В.Ф. Борьба за Логос. Г. Сковорода: жизнь и учение. Минск, 2000. 592 с.
- Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. 672 с.