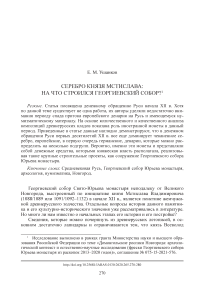Серебро князя Мстислава: на что строился Георгиевский собор?
Автор: Ушанков Е. М.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: От камня к бронзе
Статья в выпуске: 265, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена денежному обращению Руси начала XII в. Хотя по данной теме существует не одна работа, их авторы уделяли недостаточно внимания периоду спада притока европейского денария на Русь и имеющемуся нумизматическому материалу. На основе количественного и качественного анализа композиций древнерусских кладов показана роль иностранной монеты в данный период. Приведенные в статье данные наглядно демонстрируют, что в денежном обращении Руси первых десятилетий XII в. все еще доминирует чеканенное серебро, европейские, в первую очередь германские, денарии, которые можно распределить на несколько подгрупп. Вероятно, именно эти монеты и представляли собой денежные средства, которыми княжеская власть располагала, реализовывая такие крупные строительные проекты, как сооружение Георгиевского собора Юрьева монастыря.
Средневековая русь, георгиевский собор юрьева монастыря, археология, нумизматика, новгород
Короткий адрес: https://sciup.org/143178356
IDR: 143178356 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.270-280
Текст научной статьи Серебро князя Мстислава: на что строился Георгиевский собор?
Георгиевский собор Свято-Юрьева монастыря неподалеку от Великого Новгорода, выстроенный по инициативе князя Мстислава Владимировича (1088/1089 или 1091/1092–1132) в начале XII в., является поистине жемчужиной древнерусского зодчества. Отдельные вопросы истории данного памятника и его культурно-исторического значения уже рассматривались в литературе. Но много ли нам известно о начальных этапах его истории и его постройке?
Сведения, которые можно почерпнуть из древнерусских летописей, в основном достаточно лапидарны и ограничиваются тем, что князь Всеволод
1 Исследование выполнено в рамках гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по теме «Домонгольские росписи Новгорода: археологический контекст и естественно-научные исследования (фрески Георгиевского собора Юрьева монастыря из раскопок 2013–2020 годов)», соглашение № 075-15-2021-576.
Мстиславич (1117–1138) вместе с игуменом Кириаком заложил собор в 6627 г. (1119), а мастера, построившего собор, звали Петр (Новгородские летописи, 1879. С. 188–189). Сооружение столь крупного каменного храма и его украшение неминуемо должны были повлечь за собой крупные денежные расходы. В качестве иллюстрации, правда относящейся к более раннему периоду, приведем сообщение из «Сказания об освящении церкви великомученика Георгия в Киеве»: «…князь Ярослав… сь въсхоте создати ц(е)рк(о)вь в свое имя с(вя)того Георгия, да ему же въсхоте то и створи. И яко начаша здати ю и не бе у нея мног делатель, и се видев князь призва тивуна, и реч(е): “Почто не много у церкве стражющих”? Тивун же реч(е): “Г(о)с(поди)не, понеже дело властельско есть, и бояться людье, еда труд подъимши наима лишени будут”. И реч(е) князь: “Аще тако есть, то аз сице створю”, и повеле куны возити на возех в комары золотых ворот, и возвестиша на торгу людем, да возметкождо по ногате на д(е)нь, и быс(ть) мъного делающих» ( Лосева , 2009. С. 325–327). В данном случае речь идет о постройке Георгиевской церкви в Киеве примерно на семьдесят лет ранее Георгиевского собора Юрьева монастыря, однако текст прекрасно иллюстрирует проблемы, которые могли возникать и, очевидно, возникали при реализации подобных масштабных строительных проектов. Какое физическое воплощение могли иметь «куны» и «ногаты», которые требовались для постройки Георгиевского собора Юрьева монастыря? Чем должен был расплачиваться с мастером Петром князь новгородский в начале XII в.? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обратиться к истории денежного обращения Руси домонгольского периода.
Так как месторождений драгоценных металлов на Руси не было, их приходилось получать из других источников, в первую очередь путем торговли с восточными и западными соседями, а основной формой импорта металла была монета ( Янин , 2009. С. 20). Еще в конце X – начале XI в. поток восточного серебра в Восточную Европу иссяк. Одновременно с этим с конца X – начала XI в. на Русь начинают все активнее поступать денарии, которые заменяют собой арабские монеты.
Чтобы подробнее разобраться в том, какие именно монеты могли обращаться на территории северо-запада Руси в начале XII в., обратимся к данным кладов. Одним из важнейших этапов в изучении древнерусского денежного обращения явились труды Н. П. Бауера. Однако при жизни ему удалось издать лишь некоторые из его работ, в частности сводку находок с западноевропейскими монетами, происходящих с территории Древней Руси. Основная работа Бауера, посвященная исследованию денежного обращения Руси, вышла из печати уже после смерти автора ( Бауер , 2014). В своем труде Бауер отметил, что пришедшие на смену восточным дирхамам денарии продолжали поступать на Русь, особенно в северо-западные ее районы, вплоть до первых десятилетий XII в. (Там же. С. 208–209, 211). Хотя, как отмечает автор, денарии и завозились иностранными купцами, все же они принимали участие в денежном обращении Древнерусского государства, то есть представляли собой полноценное платежное средство (Там же. С. 195–212). Бауер обратил внимание и на эволюцию значений денежных терминов. Суть его построений сводится к тому, что западноевропейский денарий в XI – начале XII в. был встроен в древнерусскую денежную систему и мог обозначаться терминами «куна» или «резана» (Там же. С. 214–223).
Определенную корректировку в данный вопрос внесли работы В. Л. Янина, особенно публикация его диссертации «Денежно-весовые системы Руси. Домонгольский период», первое издание которой состоялось еще в 1956 г. и которая впоследствии была переиздана ( Янин , 2009). В основе данного труда лежали сводки Н. П. Бауера и Р. Р. Фасмера, однако Янин подверг доступные ему данные глубокому комплексному анализу, результаты которого стали основой книги. В своей работе В. Л. Янин особое внимание уделил изучению композиции известных на тот момент кладов, сделав ряд важных выводов, в частности о том, что ввоз западноевропейских монет определялся внутренними потребностями древнерусской экономики (Там же. С. 172). Окончание притока западноевропейских монет Янин датировал рубежом XI–XII вв., а вскоре после этого, по мнению исследователя, они перестали играть роль денег на территории Древнерусского государства (Там же. С. 175, 182). Опираясь на данные кладов, Янин пришел к выводу о том, что ареал обращения западноевропейского денария практически не выходил за пределы Северо-Западной Руси, совпадая в своих географических рамках с ареалом обращения восточных дирхамов наиболее позднего периода (Там же. С. 174). Говоря о денежной терминологии, Янин также указывал на две группы денариев, выделенных им по кладам, как на физическое воплощение резаны, пфенниг «основных германских типов» (Там же. С. 180) и более мелкой единицы – «двойной веверицы – фризского денария» (Там же. С. 181).
В. М. Потин, который в значительной мере соглашался с В. Л. Яниным, все же подверг критике ряд высказанных им положений в своей работе «Древняя Русь и европейские государства в X–XIII вв.: историко-нумизматический очерк» (Потин, 1968). В частности, он не согласился с выводом Янина об окончательном прекращении поступления западноевропейских монет на Русь на рубеже XI–XII вв., отметив, что денарии продолжали поступать сюда, хотя и в значительно меньшей степени, до четвертого десятилетия XII в. (Там же. С. 73), убедительно показав, что находки денариев характерны и для Южной Руси, хотя их концентрация там намного ниже (Там же. С. 47–48). Потин также предостерегал «от прямолинейного понимания тезиса о “прекращении” притока западноевропейских монет на Русь в XII в.» (Там же. С. 91), отметив, что «реки монетного серебра превратились в едва заметные ручейки» (Там же. С. 92). Говоря о распространенности на древнерусских землях западноевропейского денария, Потин отмечал, что наибольшая концентрация кладов с этими монетами приходится на территорию Новгородской земли (Там же. С. 47). На момент выхода работы В. М. Потина им было учтено 45 кладов и 83 отдельные находки с западноевропейскими монетами на территории Новгородской земли и ближайших северных приграничных земель (Там же). На сегодняшний день количество находок с денариями продолжает увеличиваться. Именно с северо-запада происходят и наиболее поздние клады, хотя известно о нескольких кладах и отдельных монетах XII–XIII вв., среди которых есть западноевропейские монеты этого периода, происходящих с территории современных России и Украины (По-тин, 1993. С. 190; Чернышов, 2017. С. 157–180; Евстратов, Чернышов, 2017. С. 95–99; Чернышов, 2018. С. 121–129). Однако сами исследователи кладов, как правило, подчеркивают, что эти находки свидетельствуют, скорее, о косвенных контактах Руси со странами средневекового Запада и, видимо, говорят о существовании и функционировании некоторых трансконтинентальных торговых путей (Потин, 1993. С. 190; Евстратов, Чернышов, 2017. С. 97–98; Чернышов, 2017. С. 170–172; 2018. С. 127–128). Среди интересующих нас древнерусских кладов упомянем следующие: Скадино (Потин, 1967. № 170) (tpq по Потину 1130) из Псковской области, Шпаньково (Спанко) (Там же. № 189) (tpq по Поти-ну 1130) и Лодейное Поле I (Там же. № 218) (tpq по Потину 1105) из Ленинградской области, а также Архангельский клад начала XII в., монетная часть которого подробно не описана (Nosov, Ovsyannikov, Potin, 1992. P. 3–21; Носов, Потин, 1997. С. 146–157). Одной из ключевых особенностей наиболее поздних кладов западноевропейских монет, как отмечает Потин, является их вес, который многократно возрос по сравнению с кладами XI в. (Потин, 1968. С. 86–87). Кроме того, Потин отмечал, что, по крайней мере, с XII в. начинается изготовление и обращение новгородских слитков (Там же. С. 86).
Стоит отдельно отметить объемную статью А. В. Назаренко о происхождении древнерусского денежно-весового счета ( Назаренко , 1996. С. 5–79), в которой исследователь на основе широкого круга древнерусских и иностранных письменных источников анализирует зарождение и эволюцию денежно-весовых систем Древнерусского государства. Назаренко приходит к выводу о том, что на Руси «существовало несколько разновидностей резан», наименьшая из которых, весом около 1,0 г, «была равна 1/2 куны Русской Правды, а главное – совпадала со средним весом западноевропейского денария, ходившего на Руси в XI в.» (Там же. С. 78). Слом этой системы и ее перестройку Назаренко вслед за Яниным датирует рубежом XI–XII в., отмечая, что серебро с этого времени «употребляется только для крупных и международных платежей, причем чаще всего в виде слитков» (Там же. С. 78).
Но что же это были за монеты, ведь состав кладов с западноевропейскими денариями не оставался неизменным в течение всего XI в.? Для ответа на этот вопрос обратимся к данным упомянутых выше кладов. Клад Лодейное Поле I (tpq 1105) содержал не менее 3280 монет, из которых известно 628 английских денариев IX – середины / второй половины XI в., 2 ирландских денария второй половины X – первой трети XI в., более 2400 германских денариев X – начала XII в., 28 датских пеннингов XI в., 1 норвежский денарий середины – второй половины XI в. и 1 шведский денарий первой половины XI в., скандинавские подражания англосаксонским денариям в количестве 64 экземпляров, 21 чешский денарий первой половины XI в., а также вендки (точно не датированные Поти-ным) в количестве 174 экземпляров и не менее 500 куфических дирхамов. Второй клад, из Скадино (tpq 1130), содержал 839 монет. Среди монет Скадинского клада определены 10 английских пенни чеканки второй половины X – второй половины XI в., 1 итальянский денаров первой половины XI в., 796 германских пфеннигов X – первой трети XII в., 9 германских монет, не атрибутированных из-за стертости, 1 неопределенный брактеат, 9 датских монет XI в., 9 скандинавских подражаний англосаксонским монетам, точно не датированных, 2 византийских милиарисия второй половины X – первой четверти XI в. и 11 арабских дирхамов чеканки до 1005/1006 г. Третий, из Шпаньково (Спанко) (tpq 1130), содержал около 1850 монет, среди которых были 24 английских пенни конца X – конца XI в., около 1800 германских пфеннигов конца X – первой четверти XII в., 8 датских пеннингов XI в., 2 норвежских денария XI в., 4 вендки, 2 византийских милиарисия конца X – первой четверти XI в., 13 куфических монет. Последний клад, из Архангельской области (tpq начало XII в.), содержал более 2000 монет (Носов, Потин, 1997. С. 146), из которых 91 английский пенни XI в., 23 скандинавских подражания англосаксонским монетам, 1797 германских пфеннигов XI – начала XII в., 2 чешских денария первой половины XI в., 1 венгерский денарий 1000–1038 гг., 11 датских пеннингов середины – второй половины XI в., 1 шведская (?) и 3 норвежские монеты, а также 3 восточные монеты X в. Отметим здесь, что в состав данных кладов входили украшения, как целые, так и фрагментированные, но ни в одном из указанных выше комплексов не отмечено серебряных слитков или их фрагментов.
Таким образом, можно видеть, что к концу первой четверти XII в. на территории Северо-Западной Руси продолжали существовать значительные запасы серебра, преимущественно в чеканенном виде, в виде западноевропейских денариев, с которыми должно было быть хорошо знакомо местное купечество, а также княжеско-боярская верхушка. Как справедливо отмечает В. М. Потин, в кладах первых десятилетий XII в. на многие сотни монет XI в. приходятся лишь единичные экземпляры монет начала XII в. ( Потин , 1993. С. 181), что свидетельствует о резком сокращении потока серебра на Русь в этот период. Однако это не говорит об окончании обращения западноевропейских монет, по крайней мере на северо-западе Руси. Более того, как показывают дальнейшие исследования Потина, западноевропейские денарии продолжали попадать в слой Великого Новгорода и в 30-е гг. XII в., и даже значительно позднее ( Потин , 1981. С. 85. Табл. I). Хотя в последнее время высказывались сомнения относительно предложенных Яниным концепций поступления и обращения денария на Руси ( Чернышов , 2018. С. 121–129), на наш взгляд, данные нумизматики и археологии прямо свидетельствуют о самом непосредственном участии иностранной монеты в денежном обращении, по крайней мере на территории Великого Новгорода, до конца первой четверти XII в., а вероятно, и несколько позднее. Кроме того, высказанные идеи о корректировке взгляда на древнерусские земли как на конечный пункт движения западноевропейского денария на основании данных комплексов и отдельных находок каринтийских, австрийских и венгерских монет второй половины XII–XIII в. (Там же. С. 126, 128), по нашему мнению, не вполне справедливо экстраполировать на территорию Северо-Запада Руси конца XI – начала XII в. Следует, впрочем, оговориться, что постановка вопроса о функционировании подобных трансконтинентальных путей и транзитном характере потока монетного западноевропейского серебра уже в XI в. чрезвычайно важна для науки и требует дальнейших исследований.
Важно отметить, что среди монет указанных выше кладов значительно количество целых, не фрагментированных экземпляров. К сожалению, ввиду отсутствия полных данных о некоторых кладах мы не можем дать точную оценку процента фрагментированных монет. Именно на соотношение целых монет и их фрагментов в кладах второй половины XI в. указывал В. Л. Янин, делая вывод о том, что в этот период на Руси монеты принимались на счет, а не на вес (Янин, 2009. С. 180). В последнее время данный тезис был подвергнут критике со стороны некоторых исследователей, предполагающих, что «европейское монетное серебро, попадая в XI в. на территорию Древней Руси… начинало восприниматься как весовое серебро» (Чернышов, 2018. С. 121–122). На наш взгляд, ясность в этот вопрос должны внести дальнейшие исследования и пристальный анализ как кладового материала, так и, в обязательном порядке, нумизматических находок, полученных при археологических изысканиях и в археологическом контексте.
Надо также отметить, что не все монеты, которые встречаются в кладах начала XII в., были одинакового веса и качества. Для лучшего понимания особенностей монетного обращения накануне «безмонетного периода» разделим состав кладов на несколько групп. К первой группе отнесем восточные дирхамы, монеты Арабского халифата, приток которых на территорию Восточной Европы завершился еще в конце Х – начале XI в., но которые в небольшом количестве дожили и до начала следующего столетия. Так, мы находим дирхамы в составе всех четырех кладов, хотя в трех из них (клад из Скадино, клад из Шпанько-во и Архангельский клад) они составляют лишь небольшой процент от общего количества монет. В большинстве случаев это были высококачественные серебряные монеты ( Hatz G., Hatz V. et al. , 1991. S. 70), хотя известны и находки поддельных дирхамов, вовсе не содержащих серебра ( Гайдуков, Гомзин , 2017. С. 291–304). Однако в связи с серебряным кризисом в странах Востока и последовавшим за ним прекращением притока монет в Восточную Европу и на Русь дирхамы уже не могли играть сколь бы то ни было важную роль в денежном хозяйстве начала XII в. Следующая группа монет – англосаксонские денарии, пенни, которые составляли значительную часть монетного серебра в начале XI в. Как можно видеть по материалам вышеупомянутых кладов, английские монеты также доживают в некотором количестве до первых десятилетий XII в., хотя и не составляют значительный процент. Только в кладе Лодейное Поле I их количество велико (628 экземпляров), в остальных же случаях они составляют лишь малую часть всех монет комплекса (24 монеты в кладе из Шпаньково, 10 монет в кладе из Скадино и 91 монета в Архангельском кладе). Проба и вес английских денариев не оставались неизменными на протяжении XI – начала XII в. Так, пенни короля Этельреда II (978–1016) обычно имеют достаточно высокую пробу, примерно от 942 ( Hatz G., Hatz V. et al. , 1991. S. 68) до 805– 780 ( Потин , 1968. С. 77), при весе в среднем около 1,5–1,3 г ( Petersson , 1969. P. 101–119, 180–184. Fig. 2–6; P. 195–197. Table 1–3; P. 234. Table 39; P. 234. Table 39; Бауер , 2014. С. 220–221; Янин , 2009. С. 179). Позднее вес английских денариев уменьшается, достигая в период правления королей Кнута (1016–1035), Гарольда I (1035–1040) и Хардакнута (1040–1042) среднего показателя в 1,09– 1,02 г. ( Petersson , 1969. P. 119–128, 185–187. Fig. 7–9; P. 198–199. Table 4–5; P. 234. Table 39; Бауер , 2014. С. 221), возвращаясь к среднему весу в 1,4–1,3 г лишь в середине XI в. ( Petersson , 1969. P. 128–134, 188–192. Fig. 10–14; P. 222– 231. Table 28–37; P. 234–235. Table 39). Проба английских пенни ухудшается до 880 ( Hatz G., Hatz V. et al. , 1991. S. 68) и даже 550 ( Потин , 1968. С. 77). Германские пфенниги составляли на протяжении второй половины XI – начала XII в. абсолютное большинство монет в кладах. Бауер приводил в качестве «первоначального веса кладового немецкого пфеннига» цифру в 1,5 г ( Бауер , 2014.
С. 220), отмечая, что уже с середины XI в. почти не встречаются монеты с таким весом, который снижается до среднего значения в 1,0 г ( Бауер , 2014. С. 220). Однако приведенные исследователями цифры достаточно грубы и сильно схематизируют данные кладов. Одна из наиболее обширных подгрупп среди германских пфеннигов включает монеты с именами Оттона и Адельгейды, которые часто и в больших количествах встречаются в кладах как начала XII в., так и предшествующего времени. Датировка этих монет до сих пор вызывает некоторые вопросы, но в большинстве случаев денарии Оттона и Адельгейды датируют временем около 983–1040 гг. ( Потин , 1993. С. 189, 241–242; Hatz G., Hatz V. et al. , 1991. S. 28–31). Вес этих монет мог колебаться в районе около 1,4–1,0 г ( Янин , 2009. С. 179; Hatz G., Hatz V. et al. , 1991. S. 31–33. Abb. 3–4). В. Л. Янин указывал сильно усредненный вес – чуть более «1,0 г, а в большинстве случаев равный 1,2 г» ( Янин , 2009. С. 179). Проба могла быть от 930–928 до 880–710 и даже до 630–500 ( Hatz G., Hatz V. et al. , 1991. S. 62, 64; Потин , 1968. С. 77). Среди немецких денариев в древнерусских кладах начала XII в. встречается много монет, отчеканенных в Кёльне в конце X – конце XI в. и на соседних монетных дворах в подражание кёльнским денариям. Их отнесем ко второй подгруппе германских монет. Вес таких денариев находился в пределах примерно 1,5–1,4 г, редко опускаясь до 1,2 г ( Born , 1924. S. 138; Hävernick , 1935. S. 30–100). Проба кёльнских денариев находилась в пределах 950–900–867 ( Hatz G., Hatz V. еt al ., 1991. S. 68; Потин , 1968. С. 77). Третью подгруппу германских пфеннигов составляют монеты, чеканенные на монетных дворах на Среднем Рейне – в Майнце, Вормсе и Шпайере. Весовая норма франконских денариев, по несколько грубым оценкам, составляла около 1,14 г при Оттоне III (983–1002), 1,25 г при Генрихе II (1002–1024), 1,10 г при Конраде II (1024–1039) и 1,09 г при Генрихе III (1039– 1056) ( Born , 1924. S. 138). Проба этих монет была в целом достаточно высока, так, денарии, атрибутированные Майнцу времени Оттона II (973–983) и Оттона III (983–1002), имели пробу от 976–937 до 840–750 ( Hatz G., Hatz V. et al. , 1991. S. 68–69). Пфенниги Вормса этого же периода показали пробу от 926–925 до 850 (Ibid. S. 69), а один из денариев Шпайера – пробу около 800 (Ibid.). Проба майнцских и вормсских пфеннигов времени правления Генриха II имела больший разброс: от 915–895 до 520 и даже 499 (Ibid.). Важно отметить наличие достаточно широко представленной четвертой подгруппы фрисландских пфеннигов. Их вес тяготел к 0,6–0,7 г ( Янин , 2009. С. 180; Kilger , 2000. S. 177, 180; Ilisch , 2000. S. 209–247), да и проба фризских монет была несколько ниже других уже упомянутых германских и английских денариев. Так, пфенниги, чеканенные во Фризии при графе Бруно III (1038–1057), имели пробу около 900 ( Потин , 1968. С. 77), при графе Эгберте II (1068–1090) проба фризских монет упала до 700 (Там же). Распространенные в кладах и среди единичных находок денарии Эмдена с именем Германа (около 1020 – 1051) показали пробу от 600 (Там же) до 386 ( Hatz G., Hatz V. et al. , 1991. S. 67). Еще один чрезвычайно широко распространенный тип монет – еверские денарии с именами Отто и Германа (около 1059–1086) – имеют пробу от 475–472 до 84 ( Hatz G., Hatz V. et al. , 1991. S. 67–68).
Таким образом, на основе кладового материала можно констатировать, что в первые десятилетия XII в. на территории Новгородской земли денежное обращение все еще включало в себя иностранные, в первую очередь западноевропейские, монеты. Трудно точно сказать, какое именно место в это время занимали серебряные слитки, которые, по мнению ряда исследователей, начинали обращаться на территории Древней Руси в это время (Потин, 1968. С. 86; Янин, 2009. С. 205–206). В. Л. Янин, вероятно, справедливо отмечал, что сфера использования слитков не пересекалась со сферой использования монет. Слитки выполняли роль средств обмена при крупных платежах и в международной торговле, а монеты использовались при небольших платежах, «удовлетворяя прежде всего потребности мелкого розничного товарооборота» (Янин, 2009. С. 205). Вместе с тем данные кладов, сокрытых на северо-западе Руси в начале XII в., демонстрируют, насколько крупные суммы могли тезаврироваться лишь с помощью монетного серебра.
Суммируя данные о кладах иностранных монет, сокрытых на территории Северо-Западной Руси начала XII в., можно заключить следующее. Денежное обращение данного региона все еще в значительной мере обслуживалось чеканенным серебром, привозными иностранными монетами, которые распадались на несколько групп нумизматических памятников. Во-первых, небольшое количество арабских дирхамов, а также денариев из Скандинавии, Византии, славянских государств и некоторых других центров чеканки средневековой Европы, которые, впрочем, не могли уже играть серьезную роль в древнерусском денежном обращении начала XII в. Во-вторых, достаточно тяжеловесные и высокопробные английские и германские денарии, чеканенные от имени королей и епископов, особенно на прирейнских монетных дворах, таких как Кёльн и Андернах, Вормс, Майнц и Шпайер, денарии с именами Оттона и Адельгейды, а также некоторые другие. Вес таких денариев мог колебаться в пределах 1,4–1,0 г, а проба держалась в районе 900–700. В-третьих, более легкие и низкопробные монеты, в первую очередь отчеканенные на монетных дворах северо-запада средневековой Германии, на территории Нижней Лотарингии, в основном во Фризии. Это еверские денарии с именами Отто и Германа (около 1059–1086), эмденские денарии с именем Германа (около 1020–1051) и пфенниги фрисландских графов Бруно III (1038–1057), Экберта I (1057–1068), Экберта II (1068–1090). Вес фризских монет был примерно вдвое меньше указанных выше немецких пфеннигов, а проба держалась на уровне 500–400, иногда опускаясь сильно ниже. Эта монетная масса была сформирована притоком чеканенного серебра на территорию Древнерусского государства, который происходил в течение практически всего XI в. и который обусловил и детерминировал состав денежного обращения вплоть до сороковых годов XII в. В начале XII в. западноевропейские денарии все еще играли важную роль в обслуживании мелких и средних платежей, а также выступали одним из главных средств накопления и тезаврации.
Список литературы Серебро князя Мстислава: на что строился Георгиевский собор?
- Бауер Н. П., 2014. История древнерусских денежных систем IX в. – 1535 г. М.: Русское слово. 692 с.
- Гайдуков П. Г., Гомзин А. А., 2017. Новгородский клад куфических монет 1998 г. // КСИА. Вып. 249. Ч. I. С. 291–304.
- Евстратов И. В., Чернышов К. М., 2017. Старонохратский клад домонгольского серебра // XIX Всероссийская нумизматическая конференция: тез. докл. и сообщ. М.: ГИМ. С. 95–99.
- Лосева О. В., 2009. Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII – первой трети XV в. М.: Рукописные памятники Древней Руси. 416 с.
- Назаренко А. В., 1996. Происхождение древнерусского денежно-весового счета // Древнейшие государства Восточной Европы. 1994 год. Новое в нумизматике. М.: Археогр. центр. С. 5–79.
- Новгородские летописи. СПб.: Археогр. комиссия, 1879. XXIV. 488. 115 с.
- Носов Е. Н., Потин В. М., 1997. Архангельский клад 1989 г. // Славяне и финно-угры. Археология, история, культура: доклады российско-финляндского симпозиума по вопросам археологии / Ред. А. Н. Кирпичников и др. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 146–157.
- Потин В. М., 1967. Топография находок западноевропейских монет X–XIII вв. на территории Древней Руси // Труды ГЭ. Т. IX. Л. С. 106–188.
- Потин В. М., 1968. Древняя Русь и европейские государства в X–XIII вв.: историко-нумизматический очерк. Л.: Советский художник. 240 с.
- Потин В. М., 1981. Нумизматическая хронология и дендрохронология (по материалам новгородских раскопок) // Труды ГЭ. Т. XXI. Л. С. 78–89.
- Потин В. М., 1993. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики. СПб.: Искусство. 303 с.
- Чернышов К. М., 2017. Путями Оттара и Торира Собаки. Немецкие брактеаты конца XII в. из Северного Прикамья // Труды ГЭ. Т. LXXXVII. Материалы и исследования отдела нумизматики. СПб. С. 157–180.
- Чернышов К. М., 2018. Торговый путь Венгрия – Киев – Булгар во второй половине XII – первой четверти XIII в. по новейшим нумизматическим данным // Нумизматические чтения Государственного исторического музея 2018 г. К 100-летию отдела нумизматики Государственного исторического музея. М.: ГИМ. С. 121–129.
- Янин В. Л., 2009. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода. М.: Языки славянских культур. 416 с.
- Born E., 1924. Das Zeit alter des Denars. Ein Beitrag zur deutschen Geld- und Münzgeschichte des Mittelalters. Leipzig: Deichert. 490 S. (Wirtschafts- und Verwaltungsstudien mit besonderer Berücksichtigung Bayerns; Bd. LXIII.)
- Hatz G., Hatz V., Zwicker U., Gale N., Gale Z., 1991. Otto-Adelheid-Pfennige. UntersuchungenzuMünzen des 10/11. Jahrhunderts Stockholm: Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities. 146 S. (Commentationes de nummis saeculorum IX–XI in Suecia repertis. Nova series; 7.)
- Hävernick W., 1935. Die Münzen von Köln. Die königlichen und erzbischöflichen Prägungen der Münzstätte Köln, sowie die Prägungen der Münzstätten des Erzstifts Köln. Vom Beginn der Prägung bis 1304. Köln. 279 S. (Die Münzen und Medaillen von Köln; Bd. I.)
- Ilisch P., 2000. Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen. 1. Münzprägung in den Räumen Utrecht und Friesland im 10. und 11. Jahrhundert. Amsterdam. 272 S. (Jaarboek voor munt- en penningkunde; 84–85 (1997/98.)
- Kilger Ch., 2000. Pfennigmärkte und Währungslandschaften. Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland. 965–1120. Stockholm: Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities. 391 S. (Commentationes de nummis saeculorum IX–XI in Suecia repertis. Nova series; 15.)
- Nosov E. N., Ovsyannikov O. V., Potin V. M., 1992. The Arkhangelsk Hoard // Fennoscandia Archaeologica. Vol. 9. P. 3–21.
- Petersson H. B. A., 1969. Anglo-Saxon Currency. King Edgar’s Reform to the Norman Conquest. Lund: Gleerup. 294 p. (Bibliotheca historica Lundensis; 22.)