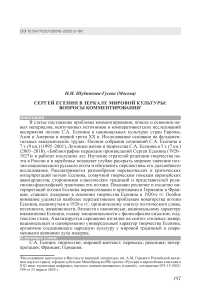Сергей Есенин в зеркале мировой культуры: вопросы комментирования
Автор: Н.И. Шубникова-Гусева
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье поставлены проблемы комментирования, поиска и освоения новых материалов, неизученных источников и компаративистских исследований восприятия поэзии С.А. Есенина в национальных культурах стран Европы, Азии и Америки в первой трети ХХ в. Исследование основано на фундаментальных академических трудах: Полном собрании сочинений С.А. Есенина в 7 т. (9 кн.) (1995–2001), Летописи жизни и творчества С.А. Есенина в 5 т. (7 кн.) (2003–2018), «Библиографии переводов произведений Сергея Есенина (1920– 1927)» и работах последних лет. Изучение стратегий рецепции творчества поэта в России и в зарубежье позволяет глубже раскрыть мировое значение поэзии национального русского поэта и обозначить перспективы его дальнейшего исследования. Рассматривается разнообразие переводческих и критических интерпретаций поэзии Есенина, созвучной творческим поискам европейских авангардистов, сторонников классических традиций и представителей религиозно-философской трактовки его поэзии. Показано различие и сходство интерпретаций поэзии Есенина переводчиками и критиками в Германии и Франции, ставших лидерами в освоении творчества Есенина в 1920-е гг. Особое внимание уделяется наиболее перспективным проблемам новаторства поэзии Есенина, выдвинутым в 1920-е гг.: органическому синтезу поэтического слова, песенности, живописности, близости с иконописью; национальному характеру имажинизма Есенина, сплаву эмоциональности с философским смыслом, подтекстом стиха. Анализируется скрещение взглядов на синтез стилевых манер, национальный и одновременно универсальный характер творчества Есенина, органично соединившего народную культуру с мировой традицией и современными веяниями духа модерна.
С.А. Есенин, творчество, мировой контекст, переводы, рецепция, интерпретация, Франция, Германия
Короткий адрес: https://sciup.org/149149389
IDR: 149149389 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-197
Текст научной статьи Сергей Есенин в зеркале мировой культуры: вопросы комментирования
The article presents the problems of commenting on, searching for, and mastering new materials, unexplored sources, and comparative studies of the perception of Еsenin’s poetry in the national cultures of Europe, Asia, and America in the first third of the twentieth century. The research is based on the fundamental academic works such as the Complete Works of S.A. Еsenin in 7 volumes (9 books) (1995–2001), the Chronicle of the life and work of S.A. Еsenin in 5 volumes (7 books) (2003–2018) “Bibliographies of translations of the works of Sergei Еsenin (1920–1927)” and the works of recent years. Studying the strategies of reception of the poet’s work in Russia and abroad allows us to reveal more deeply the global significance of the poetry of the national Russian poet and identify the prospects for his further research. The article examines the variety of translational and critical interpretations of Еsenin’s poetry, consonant with the creative searches of European avant-gardists, supporters of classical traditions and representatives of the religious and philosophical interpretation of his poetry. The difference and similarity of interpretations of Еsenin’s poetry by translators and critics in Germany and France, who became leaders in mastering Еsenin’s work in the 1920s, is shown. Special attention is paid to the most promising problems of the innovation of Esenin’s poetry, put forward in the 1920s: the organic synthesis of poetic words, song, picturesqueness, proximity to icon painting; the national character of Esenin’s imagism, the fusion of emotionality with philosophical meaning, the subtext of verse. The article analyzes the intersection of views on the synthesis of stylistic mannerisms, the national and at the same time universal character of Esenin’s work, which organically combined folk culture with world tradition and modern trends of the Art Nouveau spirit.
ey words
S.A. Esenin; creativity; world context; translations; reception; interpretation; France; Germany.
К 130-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти С.А. Есенина
Исследование разнообразных аспектов освоения и усвоения творчества С.А. Есенина в мировом контексте, по существу, только начинается. Речь идет об изучении динамики и стратегий переводческих рецепций, жизни и творчества поэта как объекта восприятия и интерпретации в словесности и культуре (философии, музыке, живописи, театре и кино) разных стран. В процессе подготовки фундаментальных научных трудов: Полного собрания сочинений С.А. Есенина в 7 т. (9 кн.) (1995–2001), Летописи жизни и творчества С.А. Есенина в 5 т. (7 кн.) (2003–2018), «Библиографии переводов произведений Сергея Есенина (1920–1927)» и исследований последних лет, – удалось впервые систематически ввести в научный оборот и датировать прижизненные и посмертные переводы произведений Есенина и критические отклики на его твор- чество, выявить факты, события, публикации, которые раньше не учитывались в отечественных и зарубежных работах о поэте и в наиболее полных библиографиях его произведений и литературе о нем, в том числе на иностранных языках [Субботин, Шубникова-Гусева 2021].
При сотрудничестве с зарубежными коллегами все доступные периодические издания были просмотрены de visu. Проведены обобщающие исследования, изучена роль русского зарубежья в процессе вхождения Есенина в европейский культурный контекст, репертуар, история и стратегия переводческих рецепций в отдельных странах, написан ряд работ о закономерностях восприятия и усвоения поэзии в Европе, Азии, Америке. Подготовлена аннотированная «Библиография переводов произведений Сергея Есенина (1920–1927)», значительная часть которой опубликована впервые.
В результате установлено, что при жизни Есенина его произведения переведены на 17 языков: немецкий, английский, шведский, французский, итальянский, польский, чешский, болгарский, сербский, словенский, украинский, белорусский, латышский, армянский, грузинский, японский и идиш. Из них в то время не вышли из печати только переводы на идиш (отдельная книга Есенина на идише увидела свет в 1931 г.). Всего насчитывается 136 публикаций прижизненных переводов 48 произведений Есенина (и/или их фрагментов). Некоторые из них печатались неоднократно.
В 1926–1927 гг. добавились переводы на испанский, литовский, словацкий, венгерский, финский и эстонский языки. На сегодняшний день удало сь описать за 1920–1927 гг. 206 публикаций переводов 95 есенинских произведений или их значительных фрагментов, цитируемых в статьях иноязычных авторов, а также в переводных антологиях и сборниках русской или мировой поэзии, выполненных 95 переводчиками, не считая анонимных, на 22 языках. Кроме того, представлены росписи семи книг переводов из Есенина, вышедших в указанный период на французском, польском, чешском и грузинском языках. Представленный материал системно и полно описан с помощью зарубежных коллег: Павла Лавринца (Вильнюс), Василия Молодякова (Токио), Мишеля Никё (Кан, Франция), Наталии Шром (Рига), Хатуны Табатадзе (Тбилиси), а также А.В. Амелиной (Москва) и др., которым авторы выражают свою признательность.
Наиболее перспективные идеи ярко проявились в 1920-е гг., когда поэзия Есенина оказалась созвучной творческим поискам и европейских авангардистов, и революционно настроенных писателей, и представителей религиозной философии, когда к творчеству Есенина обратились самые известные писатели, критики и переводчики разных стран. Тогда слава Есенина, по признанию французских литераторов, превзошла сами надежды. Многоцветие и много-слойность поэзии Есенина, новаторски объединявшей противоположные стилевые тенденции от фольклора и мифа до элементов экспрессионизма и сюрреализма, от мировых классических образцов до новейших опытов авангардистов, уже в 20-е гг. прошлого века вызвала такие разнообразные суждения, над которым мы должны задуматься сегодня. Идеи универсальности, многозначности и глубины философской мысли, близости к иконописи, которые в наши дни стали предметом научной интерпретации, были высказаны еще при жизни поэта.
Остановимся на трех, наиболее перспективных проблемах новаторства поэзии Есенина, выдвинутых в 1920-е гг. Первая – органический синтез стилевых тенденций и синтез искусств, свойственный поэту. Раскрытие «“розы ветров” этой многоликой поэтической индивидуальности» [Летопись 2003– 2018, III (2), 139] за рубежом было сделано впервые бельгийским писателем и переводчиком Ф. Элленсом (F. Hellens), издавшим в 1922 г. первую книгу переводов Есенина на французский язык «Исповедь хулигана» (“Confession d’un Voyou”). В двух обширных статьях Элленс писал о поэзии Есенина, вдохновленной классической мировой традицией Данте, Шекспира и Пушкина, и в то же время «очень современной, новой, а по материалу совершенно индивидуальной», воспитанной «на прекраснейших образах мировой живописи – на иконах» [Летопись 2003–2018, III (2), 138, 140]. Идею близости поэзии Есенина с иконописью развил чешский писатель и переводчик Ф. Кубка (F. Kubka) в 1923 г. в пражском журнале «Cesta»: «Его образы – писал он, – залиты золотой дымкой икон» [Летопись 2003–2018, IV, 176]. Исследователи творчества Есенина В.В. Лепахин, О.Е. Воронова, Л.А. Киселева, Н.В. Михаленко, М.В. Скороходов, С.А. Серегина и др. убедительно доказывают, что произведения Есенина соответствующей тематики организуются как лик православной иконы, генетически повторяющий ее пространственно-временные, колористические и образные категории.
В том же 1923 г. в предисловии к антологии современных русских поэтических произведений «Русское лицо революции», выпущенной международным издательством «Renaissance» (на обложке название: «Россия смеется и плачет», 1923, Вена, Берлин, Нью-Йорк), куда вошли «Преображение» и «Голубень» (ст. 9–17, с заголовком «Под голубым небом») Есенина, произведения А. Блока, Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Лохвицкой, М. Шагинян, видный немецкий переводчик Есенина Савелий Тартаковер определил поэтический метод Есенина как неореализм.
Синтез поэтического слова, песенности и живописности с модернизмом привлек внимание к творчеству поэта таких ярких представителей французского авангарда 1920-х гг., как поэт Ф. Дивуар (F. Divoire), писатели и критики группы «Скамандр» («Skamander») в Польше: Я. Ивашкевич, Л. Подгор-ский-Околув, и сербский поэт Л. Мицич. Правда, не будучи знакомы с идеями диалогизма и описанием образов «двойного зрения» и «двойного чувствования» [Есенин 1995–2001, VI, 125], теоретически обоснованными Есениным в статье «Ключи Марии», зарубежные критики и переводчики называли эти особенности «безотчетными», обусловленными гениальными прозрениями поэта. Но Есенин не только сознательно воплощал эти особенности, но и теоретически обосновал их в своих статьях.
Оригинальные и яркие идеи выдвинули в 1920-е гг. немецкие критики, чуткие к стилевым доминантам поэзии Есенина. Немецкий историк искусств, публицист и переводчик с русского языка В. Гартман (W. Hartmann) выполнил первые известные на сегодняшний день полные переводы произведений Есенина: «чудесного» стихотворения «Осень» («Тихо в роще можжевеля по обрыву…», 1914) и «революционной» поэмы «Певущий зов» (1917), – и включил их в свою статью «Die jüngste russische Revolutionsdichtung» («Русская революционная поэзия новейшего поколения»), опубликованную в журнале «Der neue Merkur» [Летопись 2003–2018, V (2), 122], приложив их тексты с названиями. Ранее эти переводы не были учтены даже в полной библиографии переводов Есенина, подготовленной Л. Кошутом в трехтомном Собрании сочинений поэта на немецком языке (1995), а имя переводчика не упоминалось в литературе о Есенине.
В своей статье В. Гартман одним из первых выдвинул идею трактовки поэзии Есенина и Клюева революционных лет как утопической. «Крестьяне
Клюев и Есенин, – писал он, – содержат в себе вина более сладкие, пьяны утопией абсолютного освобождения от стесняющих свободу человеческих уз. Но, тем не менее, крестьянский инстинкт не позволил им безудержно увлечься абстракциями. Крестьянские корни крепко связывают их с теплой землей. <…> Дух былин и духовных песен, дыхание Пушкина и великого реформатора языка Вячеслава Иванова сквозит в их стихах. Неслыханная смелость в использовании лексической и синтаксической формы позволяет им взрывать привычное звучание и рифму, приглушая и подчиняя их другим, более важным задачам, но никогда язык их не оборачивается невнятным лепетаньем. Никогда их стих не живет понятиями, но всегда страстью и образами, в высшей степени национальными, пропитанными свежестью луга и запахом сена, ладаном, березовым листом и запахом скотины, озаренными золотом колосьев и сиянием светлых византийских куполов» (цит. по: [Шубникова-Гусева 2012, 471–472], пер. Т.В. Кудрявцевой с участием С.И. Субботина).
Как известно, идея трактовки творчества Есенина 1917–1918 гг. как утопического получила научное обоснование в отечественном и зарубежном есениноведении особенно ярко на примере анализа поэмы «Инония» лишь на рубеже XX–XXI вв. Прочтение «Инонии» «как сложного, многотекстового произведения, в котором умещаются разные типы утопии (литературная, религиозная, народная социальная, антропологическая)» был сделан в работе немецкой исследовательницы З. Глитч (Германия). Нельзя не согласиться с выводом российских исследователей Н.Е. Никоновой и Е.С. Хило [Никонова, Хило 2015], что З. Глитч открыла новые грани в наследии русского поэта и перспективы для исследователей как российского, так и зарубежного есени-новедения. Тем не менее нельзя не учесть, что одним из авторов этой идеи, как оказалось, является первый немецкий переводчик и критик В. Гартман, а в 1990 г. в России до работы Глитч издана работа Н.В. Кононовой о есенинской «Инонии» как народно-социальной утопии [Кононова 1990, 43–55].
Вторая проблема, которую мы не можем обойти вниманием сегодня, это проблема «Есенин и имажинизм», до сих пор вызывающая неоднозначные мнения. При рассмотрении этой проблемы нельзя не учитывать тот факт, что заслуга открытия поэзии Есенина в ряде европейских стран в 1920-е гг. принадлежит представителям авангарда, для которых характерно рассмотрение имажинизма как самобытного поэтического течения, одного из самых авторитетных в России того времени. Причин тому несколько: в сферу внимания зарубежных переводчиков попадают прежде всего произведения Есенина периода имажинизма, и к поэту относятся как к выдающемуся представителю этого течения. Интерес к творчеству Есенина проявляют прежде всего авангардные органы периодической печати и сотрудничающие с ними критики и поэты, тяготеющие к различным стилевым авангардным течениям.
Имажинизм во Франции, Бельгии, Германии, Польше в начале 1920-х гг. воспринимается как «основательная» и национально самобытная школа, которую возглавил Есенин. Признавая шекспировскую мощь образов и «дух Гомера» в «Пугачеве», Ф. Элленс писал в предисловии к книге переводов:
«Имажизм» Есенина вполне мог бы существовать без «имажиз-ма» других стран: он ничем не обязан ни Уолту Уитмену, ни, например, Англии. Он не отражает ни одного из европейских направлений, он гуманен и универсален. Нет ничего удивительного, что почти все образы этой поэзии взяты из природы. Впрочем, они большой строгости, неповторимого стиля и сводятся главным образом к нескольким символам, восходящим к такому малому количеству первоначал, как утро, вечер, времена года. Но все они беспрестанно обновляются, как сама природа (цит по: [Шубникова-Гусева 2012, 125–126], пер. М. Никё).
Не случайно Ф. Дивуар в рецензии на книгу Есенина «Confession d’un Voyou» (подпись: Les Treize), опубликованную в парижской газете «L’Intransigeant», называет Есенина поэтом, «струящим подлинную поэзию, ту, что исходит из почвы, из обычаев, из зова предков. <…> пьеса “Пугачев” <…> особенно ценна пылом диалога и (местами) своими светотенями в духе Метерлинка»» (цит. по: [Шубникова-Гусева 2012, 232], пер. М. Никё). «Цветущее волшебство Имажиста» – так определила поэзию Есенина французская поэтесса, скрывшаяся за псевдонимом (Guy-Noël), в стихотворном отклике на выступление Есенина в театре Раймонда Дункан в Париже (La Comedia. 19 мая 1923).
Наиболее показательна среди первых польских работ о Есенине и имажинизме одна из трех статей видного литературного критика К. Заводзинского, связанного с группой «Skamander», под названием «О литературном движении в России» (1922). Отличный знаток русской поэзии делает акцент в творчестве Есенина на сочетании религии и революции и на художественных достижениях имажинизма (Przegląd Warszawski. 1922, № 9; июнь) как наиболее известного литературного течения в Польше.
Основываясь на программной статье Есенина «Ключи Марии» (1918), а также на работах В. Шершеневича и А. Мариенгофа, критик излагает позиции имажинистов в новом отношении к слову и в стремлении вернуть ему первоначальную образность. Поиски новых сочетаний, новых сравнений и других преград, которые имажинисты перед собой сознательно ставят, делают их, по мнению К. Заводзинского, похожими на художников барокко. В их стиле присутствуют парадоксальность и причудливость, соединение реальности и иллюзии жизни. Есенина польский критик причисляет к самым выдающимся поэтам современности и дает общую характеристику его творчества первых послереволюционных лет, выделяя стремление поэта понять прошлое и будущее России, сочетание религии с революцией, кощунство с любовью к Христу, прелесть русского пейзажа и символику обычаев русской деревни (см.: [Шубникова-Гусева 2019, 94]).
Критики и переводчики славянских стран не только ощутили новаторство поэзии Есенина, но и возлагали надежды на то, что именно имажинизм своим национальным характером и одновременно острым современным звучанием способствует расцвету их собственной национальной литературы. Даже те из них, которые относились к имажинизму и шире к авангарду, противоречиво, например, известный польский писатель Стефан Жеромский в книге «Снобизм и прогресс» (1923), обращаясь к творчеству Есенина, высказывали надежду на то, что и в Польше расцветет новое искусство, «не принесенное из-за рубежа, не почерпнутое из инонационального творчества», а по примеру Есенина, «вы-колдованное» «из жизни, речи и верований народа» [Шубникова-Гусева 2019, 352]. Такая трактовка имажинизма совпадала с пафосом возрождения национального искусства, которое выразил Есенин в статье «Ключи Марии» (1918), а также с содержанием статей Мариенгофа и Грузинова рубежа 1920-х гг., и заслуживает внимания современных исследователей.
Третья проблема – новаторство философской поэзии Есенина, сочетающей песенность, живописность и разговорность с интеллектуальной нагрузкой, подтекстом стиха. «К Есенину нужно подойти философски», – так пишет о поэте чешский критик Ф. Кубка в книге «Поэты революционной России. (Уроки современной русской лирики)» (1924), где пытается раскрыть революционный мистицизм «пророка нового мирового устройства» [Летопись 2003– 2018, IV, 176–177].
Эту примечательную характерную черту поэтики Есенина раскрыли немецкие критики и переводчики ввиду «некоторой родственности» им этой черты поэзии Есенина. Известно, что Есенин особенно ценил немецкую поэзию, проявлял интерес к творчеству И.-В. Гете, Г. Гейне и И. Гебеля. На основную особенность интерпретации поэзии Есенина немецкими переводчиками обратил внимание известный немецкий ученый и переводчик Леонард Кошут:
История немецкого перевода есенинской поэзии двигалась и движется по направлению почти к невозможному, которое в лучших работах почти достигается: к поэтическому сплаву песенности, мелодичности, интимности, эмоциональности есенинского стиха с глубиной есенинской мысли, с интеллектуальной нагрузкой, подтекстом его стиха [Кошут 1997, 456].
Примечательно, что впервые «притчевость» есенинской поэзии отметил С. Тартаковер (S. Tartakower) в статье на немецком языке «Волшебный сад русской поэзии» [Летопись 2003–2018, IV, 181]. «Лишь подпаску из Рязанской губернии, – писал он, – крестьянскому поэту Сергею Есенину (род. в 1895 г.) было суждено тесно привязать имажинизм к родной земле, придать доселе несколько произвольной идеологии притчевости истинное, общечеловеческое звучание, и вообще внести (в “Триптихе”) действительно новое слово в пресыщенную русскую поэзию» ([Шубникова-Гусева 2019, 104], пер. Т.В. Кудрявцевой).
Комментарии Полного собрания сочинений Есенина и исследования последних лет показали, что внешняя простота поэзии Есенина является хитроумной, «авантюристической» [Есенин 1995–2001, V, 223] ловушкой, за которой прячется такое богатство различного рода ассоциаций и иносказаний, которое обеспечивает ей «бездонность» содержания. Умение говорить загадками и притчами, использовать многозначность и диалогичность слова помогло поэту избежать злободневности в отражении самых острых социальных вопросов и найти выход к этическим первоосновам человеческого бытия. «Каждый стих мой душу зверя лечит», – так говорил Есенин о своей поэзии. Мастерство «слагать эти притчины, / Не боясь ничьей зуботычины» особенно ярко проявилось в поэмах «Пугачев» (1921), «Песнь о великом походе» (1924), «Анна Снегина» (1925), «Черный человек» (<1923–> 14 ноября 1925). Заключительные строки лирики 1920-х гг. нередко представляют собой афоризм, напоминающий мудрое изречение, своего рода притчу, утверждение собственной нравственной позиции: «Будь же ты вовек благословенно, / Что пришло процвесть и умереть» («Не жалею, не зову, не плачу...», 1921); «Коль нет цветов среди зимы, / Так и грустить о них не надо» («Мне грустно на тебя смотреть...», 1923); «Кто любил, уж тот любить не может, / Кто сгорел, того не подожжешь» («Ты меня не любишь, не жалеешь...», 1925) и др. Г.В. Адамович справедливо заметил, что творчество Есенина последних лет восходит к известной притче о возвращении блудного сына.
В заключении важно подчеркнуть, что изучение рецепции творчества Есенина в мировом контексте открывает сегодня новые горизонты исследования традиций и новаторства его поэзии, сочетания в творчестве поэта национального и инонационального, синтеза авангардных, фольклорных и классических традиций, места и значения имажинизма как литературного течения в литературном процессе 1920-х гг. Сегодня мы сознаем, что в стремлении возродить основы творчества своего народа, его «особенную физиономию», и органически соединить их с современными поисками нового духа модерна в литературе ХХ в. трудно найти поэта, равного Есенину.