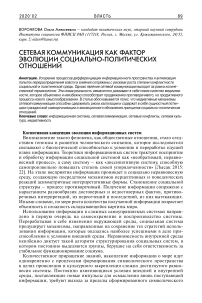Сетевая коммуникация как фактор эволюции социально-политических отношений
Автор: Воронкова Ольга Алексеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Ускорение процессов дифференциации информационного пространства и активизация попыток перераспределения власти и влияния сопряжены с рисками роста степени конфликтности социальной и политической среды. Однако явление сетевой коммуникации выходит за рамки количественной терминологии. Эта новая реальность имманентно развивает в себе новое качество медиативности, которое объективно и неизбежно способствует продвижению противоречивого, но продуктивного процесса нового смыслообразования. В статье обосновывается тезис, что медиативные механизмы сетевой коммуникации способны сдерживать риски хаотизации и содержат в себе сущностный потенциал гражданской самоорганизации и эволюционного обновления принципов социально-политических отношений.
Информационная система, сетевая коммуникация, сетевые конфликты, сетевая культура, медиативность
Короткий адрес: https://sciup.org/170171135
IDR: 170171135 | DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7139
Текст научной статьи Сетевая коммуникация как фактор эволюции социально-политических отношений
Возникновение такого феномена, как общественные отношения, стало следствием генезиса и развития человеческого сознания, которое исследователи связывают с биологической способностью к усвоению и переработке идущей извне информации. Теоретики информационных систем трактуют восприятие и обработку информации социальной системой как «необратимый, неравновесный процесс», а саму систему – как «диссипативную систему, способную самопроизвольно повышать степень своей упорядоченности» [Лысак 2015: 22]. На этапе восприятия информация проникает в социально неравновесную среду, создающую посредством механизмов перцептивных и поведенческих реакций асимметричные интерпретативные формы. Становление социальной структуры – процесс противоречивый. Получение информации сопряжено с нарастанием разнообразия достоверных и недостоверных фактов, противоречивых интерпретаций, их пересечений и последствий, из них вытекающих. Иными словами, по мере роста количества получаемой информации возрастает объемность и сложность складывающейся картины мира.
Использование информации в сложных самоуправляемых системах направлено в первую очередь на самосохранение и воспроизводство системы. Перерабатывая в себе изменения окружающей среды, социальная система продуцирует механизмы, направленные на сохранение тех стратегий использования информации, которые оказались наиболее успешными в деле приспособления к условиям внешней среды. Неравновесность внутренней среды неизбежно диктует такой алгоритм структурирования социальных систем, в котором постоянно выделяются группы, берущие на себя ответственность за стабильное функционирование социума.
Количественное приращение знаний, накопление информации о мире идут одновременно с процессами формирования символического пространства в целях прояснения и культурного закрепления сложно достигнутого равновесия системы. Постоянно изменяющиеся условия внешней и внутренней среды, поставляющие новые импульсы для осмысления вновь поступающей информации, требуют выхода за пределы сформированного символического поля. Способность социальной системы к восприятию новых информационных импульсов и переформатированию символического пространства является важным фактором, определяющим способ обновления системы – эволюционный или революционный.
При эволюционном развитии символические формы, представляющие информационное содержание предшествующих стадий, подвергаются поступательной ревизии. Устаревшие кластеры информации, не представляющие более ценности для изменившихся практических условий жизни, отрицаются и отбрасываются, вытесняются более приемлемыми. Происходит качественное обновление информационного поля одновременно с поиском новых символических форм, наиболее адекватно отражающих его изменяющиеся компоненты. При этом новая информация, прежде чем обрести свое прочное место в структуре социального знания, стать частью социального сознания, должна пройти тест на валидность – обоснованность и состоятельность. И в этом процессе по причине неравновесности социальной системы – наличия в ней слоев, не готовых к принятию новых информационных объемов и непривычного содержания, – происходит отторжение инновационного знания и регрессивный откат на прежний уровень. Процесс социальной реакции на изменяющиеся условия может происходить крайне болезненно в зависимости от соотношения прогрессивных и регрессивных сил системы. При преобладании консервативных сил и их стойком сопротивлении инновациям, разрушающим привычный образ жизни, кризис социальной системы неизбежен.
Всякий раз, когда развивающаяся система возвращается на предшествующую стадию, она воспроизводит некоторые структурные черты прежнего информационного поля. Социальные системы высшего уровня используют опыт предшествующих стадий для решения текущих задач. Но теперь уже информационная система обогащена не только комплексом знаний о внешнем и внутреннем мире, но и памятью об успехах и ошибках использования этих знаний в прошлом опыте. Таким образом, воспроизводя структурные черты информационного поля прежнего уровня, социальная система нового уровня имеет больше шансов избегать ошибок прошлого и справляться с текущими проблемами быстрее и качественнее. Это означает, что, даже откатываясь на прежний уровень, система неизбежно эволюционирует, встраивая накопленный опыт в изменившиеся условия бытия.
Сетевая коммуникация
В процессе эволюционного развития линейные информационные системы трансформируются в коммуникативные. Это означает качественное изменение принципов системного равновесия. От парадигмальной модели производства знания и вертикально центрированного распределения информации социальная система постепенно переходит к горизонтально структурированной модели многомерного информационного обмена – коммуникации. В коммуникативной системе единый центр влияния на производство и распространение информации рассыпается на множество центров, каждый из которых обрастает каналами обратного влияния – критической интерпретации, подрывающей претензии на монополию знания. Коммуникативно активные слои выступают посредниками между верхними и низовыми пластами социальной пирамиды, возводя новые опоры поддержания равновесия системы. Критически перерабатывая информационные объемы и определяя альтернативные векторы влияния на массовое сознание, посредники – медиаторы процесса информационного обмена создают условия для вовлечения в коммуникационный процесс всех слоев общества – развития массовой коммуникации.
Классики социальной науки сходятся во мнении, что только развитие коммуникации при возрастающем разнообразии и рисках хаотизации информационного пространства способствует решению проблемы «нормализации» общества. Несмотря на сложность и противоречивость процесса коммуникации, только она остается тем средством, которым современное общество как система воспроизводит себя. Именно коммуникация обеспечивает внутреннее структурное сцепление ( structural coupling ) [Habermas 1991].
Взаимозависимость индивидуальных, групповых и системных способов самореализации становится принципиальным условием нового типа рациональности. Понятие коммуникативной, или дискурсивной рациональности, в отличие от инструментальной, предполагает не просто постановку цели и просчет средств (по принципу «цель оправдывает средства»), а поиск баланса взаимодействия и достижение взаимопонимания в обществе, невозможное в условиях господства какого-либо одного структурного кластера в линейных информационных системах. Наличие критического потенциала, противостоящего любым претендующим на доминирование политическим силам, и публичной сферы для гражданского самовыражения становится необходимым предусловием на пути достижения взаимопонимания в социуме. Современная критическая рациональность реализуется в процессе развития сетевой культуры как высшей стадии развития логики эволюции социальных систем.
В условиях внедрения во все сферы жизни электронно-цифровых технологий сетевая коммуникация становится не просто технологически усовершенствованным обменом информацией. Явление сетевой коммуникации выходит за рамки количественной терминологии, такой как «многократное увеличение объема информационных потоков», «ускорение темпов движения», «облегчение доступа к информации». Восхождение социальной системы на новый электронно-технологический уровень не просто изменило характер поступления информации, ее переработки и потребления. Это явление содержит в себе характеристики более высокого уровня, обусловленные синергетическим эффектом от проникновения технологий в организацию социальной жизни и созданием особой сетевой среды. Эффект синергии возникает между технологическим изобретением и социальной эволюцией [Кастельс 2017: 192]. Принципиально новый тип коммуникации ведет к нелинейным системным изменениям. Повышение степени информативности и конкурентности публичного пространства неизбежно углубляет социальную дифференциацию и повышает уровень развития критического мышления в массовом сознании, что провоцирует сетевые конфликты.
Сетевые конфликты
Каждый новый уровень социальной дифференциации требует изменений институциональных принципов. Переход к электронно-сетевым практикам взаимодействия происходит через сетевые конфликты. Следствием массовой включенности в коммуникативные процессы становится стремительное повышение дисперсии публичной сферы, ее распад на множество сфер, сталкивающихся и конфликтующих между собой. В сетевых конфликтах публично проявилось столкновение разных картин мира, целей, ценностей и смысловых интерпретаций действительности. Полифония сетевого коммуникативного пространства обнаружила принципиальную несопоставимость многих элементов социального и политического дискурса.
На ранних стадиях формирования сетевого общества, в реалиях недостатка опыта свободной коммуникации и культуры коммуникативного обмена само-регулятивное разрешение сетевых конфликтов имеет не так много шансов.
Пока гораздо чаще бурные общественные обсуждения спорных вопросов в Интернете заканчиваются переходом на ненормативную лексику и полным разрывом коммуникативных связей. Для поляризованного типа общества, к которому относится Россия, воспроизводство конфликтного характера дискурсивного взаимодействия демонстрирует высокую степень устойчивости. Сетевые конфликты выражают принципиальную несостыковку исторически неизжитых идеологических приоритетов – государственничества и гражданско-правового устройства общества. Очевидным риском конфликта основных дискурсных формаций – системно-энкратической и оппозиционно-протестной – становится ставший традиционным для России турбулентный характер социально-политических изменений, обусловленный принципиальным расхождением представлений о должном характере общественного устройства и способах его поддержки. Вопрос о перспективах напрямую связывается с вопросом о возможностях фундаментальных изменений культурного базиса и установок массового сознания, исторически выстроенных идеологическими инструментами.
Часто высказываемые убеждения, что открытый доступ к цифровым средствам коммуникации, свобода самовыражения в публичной сфере вряд ли могут привести к трансформации российского типа культуры, небесспорны [Кожемякин 2011]. Факт резкого повышения дисперсии публичной сферы в электронно-сетевой среде как раз свидетельствует об отсутствии некоего фундаментально общего качества российской культуры пользования медиа, строго детерминирующего выражение мнений в публичном пространстве. Тем не менее очевидно, что фундаментальные ценностные сдвиги в массовом сознании не следуют непосредственно за технологическими изменениями. Между периодами накопления экономической устойчивости и укреплением уверенности в собственных возможностях участия в управлении социальными процессами неизбежно проходит период переосмысления и перестройки всей культурной матрицы. Сегодня, несмотря на заметное начало процесса эмансипации общественного сознания, широкие слои населения далеко не сразу обнаруживают готовность к свободной коммуникации по поводу ценностных предпочтений. Эволюция системы ценностей привела к выделению из массы малочисленных групп, осознанно декларирующих различные социальные и политические предпочтения, но пока не привела к созданию механизмов становления социального согласия, т.е. коммуникативного баланса в условиях неединства мнений и неединомыслия как базового инструмента легитимации политики и принятия решений. И это является главной проблемой политического развития России в настоящий момент.
Социологи дружно связывают неотвратимость этих сдвигов с взрослением новых поколений России, проходящих процесс социализации в технологически обновленной среде. Однако процесс сетевой идентификации молодежи проходит гораздо сложнее, чем идеологически детерминированная социализация прежних поколений. Сетевое общество сталкивается с новыми вызовами, в частности с многократным расщеплением и инструментальным совершенствованием каналов влияния на общественное сознание. Утерянная монополия политической власти на формирование общественного мнения рассыпается на перекрестные конкурирующие векторы влияния, исходящие из множественных центров, претендующих на захват общественного внимания и подчинение общественного поведения своим интересам. Сетевое пространство становится не просто полем столкновения различных точек зрения, выражающих интересы, ценности и нормативные представления определенных групп общества, что есть нормальный дискурсивный процесс, а эпицентром «битвы за умы». В сетевых условиях дискурсные конфликты дополняются обновленным манипулятивным форматом, преследующим цели сетевого программирования общественного сознания.
Сетевая манипуляция – это уже не просто прямое психологическое, ментальное или силовое давление. Манипуляционные приемы вырабатываются в условиях борьбы за построение в индивидуальном мозгу алгоритма ориентации в потоке информации и произведение информационного и поведенческого выбора в пользу того или иного «центра влияния». Эти задачи требуют высокой изобретательности подходов и особой изощренности. Если маркетинговые технологии в сети вооружены принципом подстраивания под однажды проявленный интерес пользователя, то политические технологии работают, напротив, на подрыв и разрушение интереса, противоречащего интересу политического игрока. Однако и те и другие технологии работают на понижение содержательного качества социального и политического дискурса, поощряя распространение контента уровня «желтой прессы», привлекающей гораздо больше внимания неискушенной публики и отвлекающей ее от обсуждения серьезных проблем. Но хотя у сетевых манипуляционных технологий – вброса скандальных, ложных, дискредитационных и провокационных материалов, замаскированных под подлинную информацию, – на первый взгляд, гораздо больше шансов на успех, чем у прямолинейно монологических, сетевая конкуренция и многократно расширившиеся возможности выбора не позволяют ни одной из форм сетевой власти установить «режим нетократии» [Бард, Зодерквист 2005], т.е. подчинения общественного сознания и поведения интересам некой новой сетевой элиты.
Медиативность как сущностная характеристика сетевой коммуникации
Современный тип общественного устройства базируется прежде всего на открытом обсуждении и постоянном критическом пересмотре ценностей и норм как основы социального взаимодействия. Сетевая интериоризация – основательное вовлечение всех слоев общества в дискурсивный процесс – вызывает качественную перестройку коммуникативных отношений в социуме. По данным Левада-Центра, доля интернет-пользователей среди совершеннолетних жителей России составила 81%, из которых 65% респондентов – это ежедневная аудитория Интернета1.
Массовый переход дискурсивных практик в сетевое пространство Интернета дает старт развитию медиативных механизмов взаимодействия. Организационно-институциональные принципы традиционных юридических, политико-дипломатических и бизнес-практик, нацеленные на разработку специфических процедур достижения договоренностей, в сетевом обществе приобретают сущностное качество объективной неотвратимости. В условиях сетевой интериоризации развитие умений публично письменно высказываться, искать подтверждающие позицию аргументы, находить в спорных ситуациях оптимально возможные решения происходит как самопроизвольный процесс.
Медиативные практики, в которых вырабатываются посреднические механизмы разрешения споров, объективно способствуют развитию форм социального и политического участия не только активных, но и пассивных граждан. Формирование «сетевой идентичности» означает осознание себя «человеком сети», субъектом сети, внутренне готовым к выражению собственной позиции, самоутверждению в сетевом обществе. И хотя на раннем этапе этот процесс неизбежно должен пройти болезненную и конфликтную стадию самоопределения, разрушения идеологизированных установок, идентификации с тем или иным смысловым приоритетом, перспектива эволюционного роста уровня массового сознания просматривается достаточно отчетливо. Современные сетевые возможности создают условия и предпосылки для формирования медиативной логики развития межсубъектных отношений, а вслед за этим – продвижения широких социокультурных и политических изменений.
В процессе рассмотрения и прояснения изменяющихся смыслов, обновления ценностей и норм активно обсуждаются и пересматриваются взгляды на социальные вопросы демографии, устройства семьи, эвтаназии; политические вопросы сменяемости власти, справедливого правосудия, социального участия в принятии политических решений. Дискурсивное прояснение терминологии, смыслов и позиций, определение проблемных точек, поиск сфер совпадения интересов и подходов к решению проблем в потенциале задают имманентный вектор на продвижение общества к поиску согласия и трансформацию политико-управленческих принципов.
Эмпирические исследования динамики ценностно-нормативных предпочтений подтверждают логико-теоретические конструкты развития сетевого общества. За последние годы произошли существенные изменения в массовом сознании: при некотором снижении обеспокоенности материально-экономическими проблемами происходит заметное переключение внимания на вопросы политико-управленческого характера. Отчетливо проявляется начало перелома политического вектора в России – с явной поддержки авторитарного курса в нулевых на массовый запрос на демократизацию политического пространства. Социологи отмечают, что «респонденты стали чаще отмечать права, важность которых для них ранее не имела выраженной значимости». С декабря 2017 по октябрь 2019 г. зафиксировано существенное увеличение частотности выбора прав, связанных с различными свободами: правом на свободу слова, свободу вероисповедания, свободу совести, свободу мирных собраний и ассоциаций. Это свидетельствует об актуализации повестки прав человека в массовом сознании. За 2 года поддержка мнения о важности свободы слова выросла в полтора раза не только среди жителей Москвы и крупных городов, наиболее активно включенных в эту повестку, но и среди жителей провинции и сел1. Более того, данные разных опросных центров ясно свидетельствуют о старте тенденции постепенного преодоления дискурсных расколов в социальном пространстве. Точками сопряжения в массовом сознании становятся запросы на создание достойных условий жизни и социальную справедливость. И хотя представления о политических путях и методах достижения социальной справедливости и общего благополучия еще сильно расходятся, очевиден факт утверждения требований достоверной информации, интереса к ее обсуждению и участию в диалоге власти и общества.
Но в сложившихся условиях можно наблюдать лишь имитацию такого диалога. Вместо того, чтобы взять на себя функцию урегулирования социальных конфликтов, управленческие структуры часто выступают конфликтующей стороной в отношениях с обществом. В последнее время репрессивная практика со стороны государства резко активизировалась – от борьбы с анонимностью в Интернете и уголовного преследования за перепост критических материалов до силового подавления мирных митингов. Углубление раскола между властью и оппозиционной частью общества, на первый взгляд, способствует ослаблению шансов на эволюционные изменения политической системы в России.
Однако после протестного лета 2019 г. стало очевидным, что репрессивные методы дают обратный эффект. Начиная открытую войну с обществом, наступая на реально существующие информационные и коммуникационные потребности, усложняя людям повседневную жизнь, власть неизбежно способствует вовлечению все более широких общественных слоев в политическую публичную сферу. Развитие сетевой коммуникации порождает новую гражданскую элиту, способную задавать альтернативную политическую повестку и вынуждать власть к шагам отступления на силовом фронте. Добиться желаемого успеха на силовом поприще власти не удалось. Надуманное обвинение в массовых беспорядках не вызвало эффекта устрашения и снижения гражданской активности.
Деятельность гражданского общества, которое зреет, растет и выходит на уровень публичной политики, неизбежно приводит власть к осознанию рисков дестабилизации системы и, наряду с демонстрацией силы, подталкивает к поиску «мягких» вариантов системных изменений. На фоне ослабления индексов доверия власти 2020 г. начался с декларации изменения приоритетов государственной политики – с приоритета внешнего самоутверждения на постановку конкретных целей создания условий для существенного повышения благосостояния российских граждан, обеспечения высоких стандартов жизни, в т.ч. защиты прав и свобод личности1.
Останутся ли объявленные приоритеты на уровне риторики или обретут реальное воплощение, зависит в первую очередь от появления во властной среде сильных личностей, что для России в любые времена играло решающую роль. Очевидно, что в сложившихся условиях монополия на принятие как политического, так и любого социально значимого решения остается за государственной властью, отражающей и защищающей интересы влиятельных элит. Вместе с тем чем шире становится круг сетевой социальной коммуникации и выше уровень гражданского участия в политической жизни, тем больше шансов на эволюционный характер политических изменений в России.
Список литературы Сетевая коммуникация как фактор эволюции социально-политических отношений
- Бард А., Зодерквист Я. 2005. Netократия - новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб: ИД "Стокгольмская школа экономики". 369 с
- Кастельс М. 2017. Власть коммуникации: учебное пособие (пер. с англ. Н.М. Тылевич; пер. с англ., предисл. А.А. Архиповой; под науч. ред. А.И. Черных). М.: ИД ВШЭ. 591 с
- Кожемякин Е.А. 2011. Дискурсные барьеры общественного диалога: Предметно-прагматическая инкогерентность. - Метадискурсы коммуникации и проблемы общественного диалога: сборник статей (под ред. С.В. Клягина, О.Д. Шипуновой). СПб: Изд-во СПбПУ. С. 77-81
- Лысак И.В. 2015. Информация как общенаучное и философское понятие: основные подходы к определению. - Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. № 2(10). С. 9-26
- Habermas J. 1991. The Theory of Communicative Action. Vol. 1. Reason and the Rationalisation of Society. Polity Press. 465 p