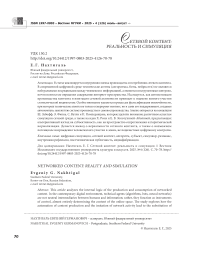Сетевой контент: реальность и симуляция
Автор: Нахтигаль Е.Г.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философская антропология
Статья в выпуске: 4 (126), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется внутренняя логика производства и потребления сетевого контента. В современной цифровой среде технические агенты (алгоритмы, боты, нейросети) не являются нейтральными посредниками между человеком и информацией, а являются инструментами контроля, почти полностью определяя содержание интернет-пространства. Исследуется, как автоматизация производства контента и имитация сетевой активности приводят к подмене живого участия статистической видимостью. Особое внимание уделяется процессам фальсификации вовлечённости, при которых технические агенты не только генерируют контент, но и сами его поддерживают, создавая автономную, замкнутую систему производства и самовоспроизводства. Анализ опирается на концепции Ш. Зубофф, Э. Финна, С. Вулли и П. Помперанцева, которые уделяли внимание различным аспектам симуляции сетевой среды, а также на идеи Х. Розы и Е. В. Золотухиной-Аболиной, предлагающих альтернативный взгляд на субъективность, как на пространство сопротивления алгоритмической нормализации. Делается вывод о нереальности сетевого контента, а также о возможном потенциале возрождения человеческого участия в зонах, не подвластных цифровому контролю.
Цифровая симуляция, сетевой контент, алгоритм, субъект, симулякр, резонанс, внутренняя рефлексия, постчеловеческая публичность, медиафабрикация
Короткий адрес: https://sciup.org/144163530
IDR: 144163530 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-4126-70-78
Текст научной статьи Сетевой контент: реальность и симуляция
Насколько реален сетевой контент? Этот вопрос становится всё более актуальным в условиях разрастания цифровой среды, где информация создаётся, транслируется и изменяется не только людьми, но и техническими агентами – ботами, алгоритмами и нейросетями. Становясь активными участниками виртуального пространства, они перестают быть нейтральными инструментами. Сегодня они управляют восприятием информации, направляют внимание, определяют, какие события получат широкое освещение, а какие останутся в тени. В условиях, когда текст, фотографии, видео, аудио и иные формы медийного контента создаются и распространяется не только людьми, а тем более, когда его производство становится возможным полностью на автономной основе, как в случае с платформами вроде Meet, EasyVid или Opus, возникает необходимость пересмотра традиционного взгляда на сетевой контент. Сетевое пространство, воспринимаемое как производное от человеческого опыта, всё стремительнее от него отдаляется. Это смещение требует философского анализа: возможно ли говорить о «реальности» контента, созданного в строгих рамках алгоритмов или вообще без субъекта, а также контента, существование которого определяется активностью ботов?
Цель настоящей статьи – исследовать культурные последствия автоматизированного производства контента и имитации сетевой активности. Каким образом технические агенты становятся не просто посредниками, но полноценными со- авторами, а подчас и единственными авторами социальной реальности, в которой человек всё чаще оказывается не субъектом, а объектом наблюдения, манипуляции и алгоритмического моделирования? Эта проблематика выходит за рамки частной критики цифровых платформ, касаясь более глубокой трансформации как самого человеческого опыта, так и социального пространства.
Анализ современной цифровой культуры и её симулятивных процессов представлен в работах многих мыслителей, среди которых: Ж. Бо-дрийяр – теория симулякров и гиперреальности, П. Вирильо – ускорение восприятия мира через медиа и технологии [3], А. Адорно – критика культурной индустрии и стандартизации массового сознания [1], Ж. Делез и Ф. Гваттари – концепция цивилизованной капиталистической машины и производства желания [4], Ж. Лакан – исследование субъективности через структуру языка и знака [5], Г. Маркузе – критика репрессивной десублимации и интеграции оппозиции в систему [7], Б. Латур – анализ гибридных акторов в сети социальных и технических связей [6]. Несмотря на различия в подходах, их объединяет стремление осмыслить, как в условиях современности знаки и образы становятся независимыми по отношению к реальности, которую они должны были бы представлять, превращая культуру в автономную систему воспроизводства смыслов.
Именно в этом контексте автоматизированное производство контента и фальсификация цифровой активности обретают философскую значимость. Тогда как классический взгляд предполагал, что сетевой контент является выражением человеческих мнений, интересов и социальных процессов, сегодня он всё чаще оказывается результатом автономных технических систем. Алгоритмы – будь то сложные протоколы рекомендаций, автономные системы оценки контента или трекеры интернет-активности – не просто перераспределяют существующие данные, а активно участвуют в производстве новых структур, новых потоков значений. Сегодня невозможно проверить, кто именно кликает, просматривает, лайкает – человек, бот или нейросеть, во всем имитирующая поведение людей. Таким образом, цифровую среду и распространяемый в ней контент следует рассматривать не просто как новую форму коммуникации, а как принципиально иное историческое состояние, в котором размываются прежние ориентиры социальной жизни, такие как «присутствие», «взаимодействие», «связь», «отклик» и так далее.
В первой части статьи рассматривается сетевой контента через логику алгоритмов, как он описан в работах Шошаны Зубофф [9] и Эда Финна [11]: от стратегий удержания внимания и механизмов влияния на поведение до превращения «реальности» в чистые потоки информации без авторов. Во второй части, опираясь на работы Самуэля Вуди [13] и Питера Померанцева [8], анализируется феномен бот-активности и имитации цифровых взаимодействий, где живые люди растворяются в огромном множестве «неживых» агентов, буквально вытесняясь ими. Это уже не Бодрийяровский вопрос «референтов», а вопрос: «участвует ли вообще субъект в социальных процессах?». В заключение будут кратко затронуты альтернативные взгляды на проблему, показывающие, что для человеческой субъективности еще есть опора в цифровом вакууме.
Алгоритм – это формализованная последовательность действий, предназначенная для решения определённой задачи в конечное число шагов. В цифровой культуре алгоритмы перестают быть лишь инструментами обработки данных, они становятся невидимыми архитекторами опыта пользователей, направляя их внимание, структурируя восприятие и формируя новые модели поведения. Тексты, изображения, видео и другие медиапродукты всё чаще существуют в цифровом пространстве не как выражение субъективного опыта или творческого акта, а как результат оптимизации под требования цифровых платформ: охваты, длительность вовлечения, частота реакций. Контент сегодня в большей степени отражает стремление соответствовать требованиям, чем выражает подлинную авторскую позицию. Создатели материалов гораздо больше ориентируются не на собственное видение, а на алгоритмические правила: как оформить обложку, как построить текст, с какой частотой публиковать, каким образом подать материал, чтобы достичь максимальных охватов, вовлеченности и удержания внимания. В результате творчество всё больше превращается в процесс оптимизации под стандарты.
Именно с этой точки зрения становится актуальным представление современного цифрового общества как общества «надзорного капитализма». В своей одноименной работе «Эпоха надзорного капитализма» Шошана Зубофф анализирует, как распространение цифровой архитектуры, управляющей вниманием и поведением пользователей, превращает данные в товар, который затем используется для манипуляции и предсказания человеческих действий. В отличие от традиционных форм капитализма, где контролировались производственные процессы, в надзорном капитализме контролируется поведение людей – их действия и предпочтения в интернете, дома, на работе, везде. В её интерпретации мы имеем дело не с жестокой тоталитарной структурой, подобной оруэлловской модели контроля, а с ее куда более мягкой, децентрализованной и рыноч-но мотивированной альтернативой. Ее особенность – в скрытности, в способности действовать так, чтобы пользователь не только не сопротивлялся, но и активно вовлекался, не осознавая механизмы, направляющие его поведение.
Надзорный капитализм, по Зубофф, возник тогда, когда поведение индивидов стало основным источником экономической ценности. Точкой отсчета можно считать 9 августа 2011 года, когда Apple обогнала по капитализации крупнейшие сырьевые компании, вроде Chevron, ознамено-
вав начало эпохи цифровых компаний. Сегодня такие технологические гиганты, как Google, Meta и Amazon имеют гораздо больше сырья для обработки, чем любые нефтяные или химические компании. Ежедневно они собирают, анализируют и предсказывают действия сотен миллионов пользователей, превращая каждый жест, клик и задержку внимания в потенциальный актив, который должен быть обработан алгоритмами: «Надзорный капитализм в одностороннем порядке претендует на человеческий опыт как на бесплатное сырье для превращения его в данные о человеческом поведении… Эти прогнозные продукты торгуются на новом типе рынков – рынках поведенческих прогнозов, которые я называю рынками поведенческих фьючерсов» [9, с. 17].
Из этого напрямую вытекает главная проблема алгоритмов. Сами по себе такие данные ничего не стоят; чтобы они приобрели ценность, нужно обеспечить поведенческое вмешательство. На их основе должны быть выстроены механизмы, позволяющие направлять и управлять поведением пользователей: «Мы можем спроектировать контекст вокруг определённого поведения и вынудить изменить поведение в нужную сторону. Данные, учитывающие контекст, позволяют нам связать воедино ваши эмоции, ваши когнитивные функции, ваши жизненные показатели и так далее. Мы можем знать, что вам не следует садиться за руль, и можем просто отключить вашу машину. Мы можем сказать холодильнику: «Отключи возможность открытия двери, потому что ему не следует есть», или мы можем выключить телевизор, чтобы заставить вас немного поспать, или отдать команду стулу, чтобы он начал дрожать, потому что вам не стоит так долго сидеть» [9, с. 387].
В этом контексте контент – будь то видео в TikTok, рекомендации в YouTube или посты в ленте Facebook – теряет своё значение как сообщение и становится средством контроля поведения. Он создаётся не для того, чтобы быть «прочитанным» или «понятым», не для того, чтобы обеспечить «связь» или «взаимодействие» в традиционном смысле, а для того, чтобы спровоцировать определенную реакцию: задержку, клик, покупку, выражение согласия, переход по рекламному объявлению, просмотр новости и так далее. Зубофф подчёркивает, что ключевым условием эффективности этого режима является непрозрачность: манипуляции работают лишь до тех пор, пока остаются незаметными. Платформа не должна открыто навязывать, она должна настраивать реальность так, чтобы субъект сам выбрал желаемое действие, не зная, что оно было сконструировано извне. Это производит новый тип власти – поведенческой, где контроль осуществляется через воздействие на внешнюю среду, а не принуждением субъекта к одобряемым словам и поступкам.
Никогда прежде высказывание Маршалла Маклюэна – «Медиум есть месседж» – не звучало столь буквально и актуально. В цифровую эпоху не содержание, а сама логика технических систем становятся основным источником значения. Это и есть то, о чем предупреждает Зубофф: «Это расчеты радикального безразличия, которые не имеют ничего общего с оценкой правдивости контента или поддержания взаимности с пользователями» [9, с. 656]. Медиум формирует не просто сообщение, но рамки возможного поведения и мышления пользователей.
Согласно этой логике становится очевидным, что алгоритмы – это не нейтральные посредники между человеком и информацией, а активные производители самой реальности. Именно эту мысль радикализирует Эд Финн в работе «Что хотят алгоритмы?», утверждая, что в сетевой культуре алгоритм – это не просто фильтр, а полноценный агент участия: «Алгоритмический объект – это система в движении, последовательность итераций, которая возникает по мере ее движения во времени. Самым важным аспектом алгоритмической системы является не поверхностный материал, который она представляет миру в любой конкретный момент (например, элементы, появляющиеся в верхней части ленты Facebook), а скорее система правил и средств, которые постоянно генерируют и манипулируют этим поверхностным материалом» [11, с. 53]. Он не только упорядочивает доступ к информации, но и определяет то, что воспринимается как релевантное, значимое, настоящее. Персонализированные новостные ленты, рекомендации, поисковые подсказки не просто адаптируются под пользователя, а производят поле возможного опыта, а значит – структуру реальности как таковой.
Финн обращает внимание на то, что алгоритмизация не просто обслуживает потребности, но формирует их. Возникает парадокс: пользователь ощущает себя свободным в выборе, в то время как каждый его жест уже предсказан и встроен в модель оптимизации. Таким образом, алгоритмы становятся носителями воли без субъекта, машинами, чьё «желание» заключается в максимизации вовлеченности в сетевой контент, но чьи эффекты выходят далеко за пределы сетевого пространства.
В этом контексте утверждение, что алгоритмы «пишут» реальность, уже не метафора. Они действительно пишут ее на языке программного кода. Финн предлагает рассматривать алгоритмы как нечеловеческих акторов, потому что наравне с людьми они включены в процесс производства социальной онтологии: определяют, кто считается экспертным источником, какой канал является наиболее актуальным, что заслуживает внимания, а что должно быть вытеснено в сферу маргинальности. Они скорее даже стремятся к полной симуляции психики пользователей, к моделированию их сознания с такой степенью точности, чтобы предугадывать желания, мысли и поступки ещё до их осознания. Цель – не облегчить навигацию в цифровом пространстве, а создать карту внутреннего мира человека, которая будет работать эффективнее, чем его собственное мышление: «Обещанное Siri, доведенное до логического предела в фильме Спайка Джонза «Она», является попыткой составить карту внутреннего пространства индивидуальной психики более тщательно, чем это мог бы сделать человек. Это стремление четко контрастирует с намерениями Google создать «компьютер из StarTrek», который может ответить на любой вопрос, используя свою идеальную карту человеческой психики» [11, с. 11].
Алгоритмы, таким образом, не являются инструментами. Сегодня они активные участники сетевого пространства. Взаимодействуя с интерфейсом сайта, социальной сети, новостной страницы, мы не просто выбираем из предложенных опций – мы формируемся ими. Алгоритмы прогнозируют наши желания, адаптируют ленту под ожидаемые эмоции, а в наиболее удачных случаях – полностью координируют поведение так, чтобы оно приносило максимальную вовлеченность. Этот процесс не осознаётся, поскольку сам способ презентации информации устроен так, чтобы казаться интуитивным, «естественным» продолжением самого человека. В реальности же, как подчёркивает Финн, каждое действие в цифровом пространстве вплетено в непрерывную цепь предложений, фильтров и предсказаний.
Следовательно, современный субъект существует не в оппозиции к алгоритмическим структурам, а внутри них, как их побочный, но необходимый элемент. Роль сознания и рефлексии в этом контексте теряется: вместо того, чтобы быть источником инициативы, субъект уже выступает в качестве материала для сетевых вычислений. Персонализация, рекомендательные системы, поведенческое таргетирование – все эти механизмы не столько обслуживают интересы пользователя, сколько формируют сами эти интересы. Техника стремится идеально спроектировать будущее поведение на основе прошлого.
Это смещение имеет фундаментальные культурные последствия. Возникает новая модель субъективности, управляемая и воспроизводимая, в которой исчезает различие между личным выражением и следствием откровенной манипуляции. Цифровое я, подвергаемое непрерывному воздействию алгоритмов, оказывается простым промежуточным этапом в цепи вычислений.
В этом контексте встаёт вопрос о самой реальности сетевого контента. Если даже цифровое я оказывается функцией алгоритмических процессов, то и содержание, с которым мы взаимодействуем, не следствие человеческих интересов, а производная от моделей, предсказывающих поведения. Уже на этом этапе становится ясно: то, что выглядит как спонтанная активность пользователей, как создателей, так и потребителей, на деле строго фильтруется и обрабатывается цифровой средой. Однако, чтобы окончательно прояснить степень реальности сетевого контента, необходимо выйти за пределы одного лишь анализа алгоритмов. Следующий шаг – рассмотрение феноменов искусственного увеличения активности сетевых ботов, фабрик лайков, на- круток просмотров и иных форм фальсификации присутствия.
Потребители, и даже производители сетевого контента, всё чаще не существуют в физическом смысле. Речь идёт о масштабной имитации цифрового участия, при которой живые люди подменяются ботами, накрутками и другими способами фальсификации активности – фермами кликов, платформами-генераторами фальшивого контента, системами нейросетей и другими изощренными технологиями.
Лайки, комментарии, подписки и просмотры больше не могут рассматриваться как достоверные индикаторы человеческой активности. Напротив, эти формы цифрового участия всё чаще выступают в роли симулякров, предназначенных для сокрытия реальной пустоты сетевых взаимодействий. Массовое внедрение алгоритмов, ботов и ферм кликов парадоксально не подрывает инфраструктуры цифровой коммуникации, а даже наоборот, оно поддерживает её, обеспечивая иллюзию массовой вовлеченности живой аудитории.
Сама граница между реальной и симулированной активностью, похоже, уже неразличима. Технологии симуляции активности эволюционируют слишком стремительно, чтобы их можно было контролировать. Современные нейросети и боты без труда обходят системы защиты, изначально предназначенные для их сдерживания, – такие как капчи или тесты на распознавание образов. Они решают эти задачи быстрее человека, или вовсе избегают их, маскируя своё присутствие с помощью смены IP-адресов и других методов запутывания трафика.
В этой ситуации цифровая среда оказывается заполненной действиями, с которыми человек не может конкурировать даже количественно. Питер Померанцев приводит удивительный пример одного единственного бота @ivan226622, который «всего за неделю опубликовал 1518 статей про филиппинскую политику < . > публиковал статьи о происходившем сначала в Иране, потом в Сирии. Затем он переключил свое внимание на Испанию и разместил сотни статей с аргументами в пользу независимости Каталонии» [8, с. 43–44].
При этом алгоритмы, рассмотренные ранее, не различают действия, исходящие от живого пользователя, и действия, создаваемые техническими агентами. В ленте социальных сетей или новостных каналов реальный и нереальный человек больше не существуют как противоположности: они вза-имопереплетены в пространстве повсеместных алгоритмов, где классический «агент» – тот, кто способен влиять на происходящее, теряет своё определение, а на первый план выходит способность соответствовать ожиданиям системы.
Таким образом, мы входим в фазу, которую можно охарактеризовать как тотальную симуляцию общественного присутствия. Общественное мнение, репутация, политическая поддержка и культурная значимость – всё это сегодня может быть не только создано, но и представлено, одобрено, принято без участия самих людей. Цифровые толпы, собранные из десятков тысяч и миллионов несуществующих профилей – при достаточном количестве – способны сами производить и воспроизводить сетевой контент так, что живому человеку останется только наблюдать за этим процессом. Как пишет Сэмуэл Вулли в работе «Консенсус производства», в современной цифровой среде пропаганда перестала быть отличительной особенностью государственных структур и элит. Он демонстрирует, как самые разные группы используют социальные медиа для создания иллюзии собственной значимости с помощью полностью автоматизированных ботов, а также ботов, которые управляются людьми (таких как «sockpuppets»т– реальные люди, контролирующие сотни фейк-аккаунтов). Эти технологии и стратегии применяются для создания эффекта массового одобрения, массового рекламного ажиотажа, привлечения внимания к частным проблемам и особенно – для формирования общественного мнения в политических целях.
Абсурд достигает своего апогея в тот момент, когда выясняется: в то время как человек оказывается сведён к роли пассивного зрителя магии алгоритмов и ботов, сами боты и их производные не просто участвуют в этом процессе, но ещё и научились им манипулировать. Как пишет Сэмюэл Вулли, «… боты могут обмануть алгоритмы трендов в социальных сетях, продвигая определенные хэштеги или видео, создавая видимость того, что множество реальных людей обращают внимание на что-то, чтобы создать иллюзию консенсуса» [13, c. 166].
Это означает, что цифровая среда утрачивает черты пространства подлинного коллективного взаимодействия, превращаясь в арену конкуренции между симуляцией контента и симуляцией участия. Не человек, а технические агенты активно захватывают, перенаправляют и эксплуатируют существующие механизмы. Как подчёркивает Сэмюэл Вулли, «алгоритмы, программное обеспечение и боты теперь сами по себе являются коммуникационной технологией, как вещательное телевидение или онлайн-газеты» [13, c. 167]. Вулли указывает, что алгоритмы платформ – от новостных агрегаторов до социальных сетей – настроены на количественные показатели: чем выше вовлеченность, тем больше контент получает приоритет в ранжировании. Именно эта логика превращает фальсификацию активности в инструмент власти: симулированная популярность становится не просто маской, но способом реального продвижения, влияя на восприятие события, персоны или идей как «общественно значимых». Иллюзия большинства – это больше не ошибка восприятия, а конструкт, производимый по запросу и тиражируемый внутри цифровой инфраструктуры.
Особенно показателен тот факт, что боты не стремятся к правдоподобию в традиционном смысле. Их задача – не убедить в своей человечности, а заполнить доступное пространство активности. Современные фермы ботов способны создавать миллионы однотипных следов, имитируя массовую реакцию, не требующую ни причинности, ни смысловой цельности. Происходит очевидное разделение между участием и субъектом: участие может быть массовым, при этом субъекта как источника намерения может не существовать вовсе.
Сетевой контент в этих условиях утрачивает своё прежнее значение как носителя человеческого опыта или мнения. Сегодня он становится элементом бесконечной циркуляции знаков, ценность которых определяется не содержанием, а способностью поддерживать движение информации и генерировать вовлеченность. Как отме- чает Питер Померанцев, современная цифровая среда превращает коммуникацию в процесс, где важно не то, правда это или ложь, а то, насколько эффективно сообщение может быть распространено: «Не имеет значения, верны ли истории, не говоря уже об их полноте: у вас нет цели выиграть спор в публичном пространстве; вы просто хотите привлечь максимум внимания» [8, с. 188].
Таким образом, Вулли раскрывает ключевой механизм существования сетевого контента: репрезентация становится автономной от репрезентируемого. Толпа существует, потому что об этом свидетельствуют цифры, а цифры – продукт машинной генерации. Это не искажение действительности, а ее замещение, где знак активности уже не отсылает к субъекту, а только к другому знаку – к числу, графику, тренду. Сейчас симуля-тивные формы цифровой активности представляют собой не побочный эффект технологической эволюции, а её внутреннюю логику, заключительный этап ее развития. От автоматизированного производства контента мы пришли к автоматизированному производству вовлеченности и даже общественности как таковой. Здесь ключевой трансформацией становится не просто исчезновение субъекта, но утрата необходимости в его присутствии: сетевой контент, даже сама активность в сети, больше не требует наличия живого участника, потому что конечной целью является не взаимодействие, а поддержание потока признаков социальной жизни.
Речь идёт, по сути, о становлении пост-чело-веческой публичности – такой формы коллективного существования, в которой человек уже не является необходимым носителем социальности, а сам социум всё больше моделируется, проектируется и обслуживается без опоры на физическое присутствие.
Однако даже в условиях тотальной симуляции сохраняется возможность выхода за пределы алгоритмического порядка. Принципиально важно напомнить, что человек не только объект обработки, но и субъект, способный к сопротивлению через спонтанность, диалог, эмпатию и телесное присутствие. В отечественной литературе такой взгляд не получил значительного распространения, за исключением некоторых авторов. Так,
Елена Золотухина-Аболина в своей статье «Как нам представляется внутренний мир?» предлагает мыслить субъективность не как данность, замкнутую в индивидуализированном «я», а как подвижную структуру, формирующуюся в акте внутреннего переживания и самообращения. В отличие от алгоритмически управляемых форм активности, которые стремятся к предсказуемости и репликабельности, внутренний мир, по ее мнению, всегда ускользает от объективизации, оставаясь уникальным пространством смысла и неопределённости. Именно здесь, в тонких границах между переживанием и его рефлексивным схватыванием, кроется потенциал сопротивления цифровой нормализации.
Золотухина-Аболина подчёркивает, что внутренний мир не может быть свёрстан по готовым шаблонам и не допускает полного представления; он скорее проявляется через «проблески», «отклики», «молчание» и «разрывы», через то, что не укладывается в логику поведенческого предсказания: « Я выныривает из глубин спонтанности, чтобы заявить о своей ответственности или вине, о своей решимости и выборе, в этом смысле оно – ядро всех прочих «кристаллизаций» внутреннего мира, нередко дремлющее, но легко просыпающееся и всегда наличное как центр субъективной реальности, ее неустранимый стержень» [10]. Следовательно, возвращение к опыту, который невозможно свести к числу, клику или лайку – это не просто философская утопия. Там, где цифровое стремится к контролю, внутреннее остаётся неустранимым и, возможно, спасительно человеческим.
В зарубежной литературе эту мысль глубоко развивает социальный философ Хартмут Роза в работе «Резонанс: социология наших отношений с миром», где противопоставляет современному ускоренному, управляющему миру мир резонансный, основанный на живом отклике между разными субъектами. Для Роза ключевым становится не контроль, а способность к отклику – будь то в межличностной, политической или цифровой сфере. В этом контексте «живая речь, встреча, физическое участие, даже через экран компьютера, всегда обретают особый человеческий статус» [12, p. 94]. Цифровая культура, сколь бы тотальной она ни казалась, остаётся проницаемой для жестов, которые невозможно запрограммировать: живое взаимодействие, акт солидарности, молчаливое присутствие. И именно в этих актах продолжается история субъекта.
Таким образом, рассматривая трансформацию цифровой среды на двух уровнях – уровнях фальсификации содержания и фальсификации активности – можно утверждать, что современность уже некоторое время назад окончательно перераспределила властные и культурные координаты. Алгоритмические структуры, определяющие сетевой контент, от примитивных трекеров активности пользователей до сложных систем рекомендаций, обрели статус полноценных агентов социального пространства. Работать с информационными потоками – их второстепенная задача, основная функция – ежедневно конструировать картину того, как пользователи должны воспринимать реальность. Там, где раньше в жизни общества находилась пропаганда или иные формы социального программирования СМИ, сегодня находится алгоритмическое управление вниманием. Фундаментальная особенность алгоритмов в том, что они не навязывают запретов, не пытаются переписать человека, а стараются заключить его в рамки ежедневного автоматизма. Эта медиатизация реальности, как отмечала Шошана Зубофф, не основана на насилии в традиционном понимании: её действие незаметно, поскольку алгоритмическое управление вниманием интегрировано в повседневность. Симуляция охватывает не только сферу предоставления контента в цифровой среде, но и саму логику участия. Как отмечает Сэмуэл Вулли, боты, накрутки, другие формы имитации активности создают пространство, где общественная жизнь, какой она была на протяжении истории, становится артефактом. Ключевая проблема, по его мнению, заключается не столько в алгоритмах как таковых, сколько в инфраструктуре, выстроенной вокруг них. За действиями алгоритмов стоят разветвлённые системы искусственных субъектов – сетевые армии автоматизированных аккаунтов, не обладающих ни сознанием, ни культурной чувствительностью. Эти сущности, глубоко безразличные к человеческому измерению реально- сти, готовы поддерживать любой дискурс, любую форму виртуального насилия или безумия – при условии, что это отвечает логике капитализации внимания.
Тем не менее представление о будущем как об окончательной победе технических агентов не является безальтернативным. Ряд исследователей, в том числе Хартмут Роза и Елена Золотухина-Аболина, подчёркивают: несмотря на возрастающее давление цифровых структур, человек сохраняет способность к установлению живых, ответных связей с людьми. Субъективность, казалось бы, лишённая условий для своего выражения, продолжает существовать вопреки: не благодаря, а несмотря на всё. В этом и заключается глубинное противоречие времени: ничто не располагает к сохранению социального и всё же оно сохраняется.
Таким образом, сетевой контент в его современном виде не может быть признан реальным в классическом смысле. Он утратил свою связь с обществом, с субъектом, с самой человеческой субъективностью. То, что мы воспринимаем как «общественное мнение» или «культурный ландшафт» в сетевом контенте, всё чаще оказывается лишь самоподдерживающейся симуляцией. Однако, несмотря на экспансию алгоритмических структур, в самом субъекте и в тканях социального остаётся пространство, в котором возможно возвращение к подлинному опыту, неподвластному симуляции. Это пространство возникает в зонах тишины, внутреннего самонаблюдения и открытого диалога – там, где машина пока неспособна воспроизвести глубину человеческого существования. Именно эти зоны требуют сегодня особого внимания и философской защиты.