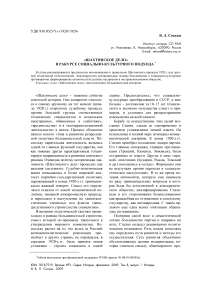«Шахтинское дело» в ракурсе социально-культурного подхода
Автор: Соскин Варлен Львович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются предпосылки возникновения и проведения Шахтинского процесса 1928 г. над группой технической интеллигенции. Анализируются доктринальные основы большевизма и социально-культурные противоречия, формировавшие антиинтеллектуальные настроения в постреволюционном обществе.
"шахтинское дело", интеллигенция, большевистская доктрина
Короткий адрес: https://sciup.org/14737035
IDR: 14737035 | УДК: 930.85(571)
Текст научной статьи «Шахтинское дело» в ракурсе социально-культурного подхода
«Шахтинское дело» – знаковое событие советской истории. Оно конкретно относится к самому крупному на тот момент (начало 1928 г.) открытому судебному процессу против большой группы отечественных технических специалистов и нескольких иностранных, обвиненных в «саботаже», «вредительстве» и в «контрреволюционной деятельности» в целом. Процесс обозначил начало нового этапа в развитии репрессивной политики большевистской власти. Поскольку карательная деятельность являлась одной из главных функций государства, она как никакая другая характеризовала тоталитарную направленность в развитии советского режима. Очевидна поэтому историческая значимость «Шахтинского дела / процесса» как явления системного. Судебно-политическая акция вписывалась в более широкий контекст партийно-государственной политики, переживавшей в конце 1920-х гг. принципиально важный поворот. Смысл его определялся отказом от новой экономической политики, имевшей компромиссную природу, и переходом в наступление на «капиталистические элементы» под флагом «непосредственного строительства социализма».
Изменение политической тактики происходило в рамках большевистской стратегии, смысл которой по-прежнему заключался в утверждении мирового коммунизма. Поскольку расчет на то, что вслед за Россией антикапиталистические революции произойдут в других странах, не оправдался, в середине 1920-х гг. была принята новая установка – строить социализм в одной стране. Предполагалось, что социальнокультурные преобразования в СССР, а еще больше – достижение за 10–15 лет технического и военного могущества станут и примером, и условием для распространения коммунизма на всей планете.
Борьбу за осуществление этих целей возглавил Сталин, сделав ее одновременно и средством установления личной власти. Он использовал в полной мере потенциал коммунистической доктрины. К концу 1920-х гг. Сталин приобрел положение лидера партии. Его главные соперники, ставшие противниками (Троцкий, Каменев, Зиновьев), были отстранены от власти. Другие в лице «правой» оппозиции (Бухарин, Рыков, Томский и др.) находились в «осаде». Формально они не выступали против перехода в «социалистическое наступление». В то же время позиция оппонентов, которую они занимали по ряду принципиальных вопросов и которая была бы естественной в демократическом обществе, квалифицировалась Сталиным и его сторонниками безапелляционно как враждебная по отношению к советскому государству, как антинародная. С таким ярлыком еще одна волна оппозиции обрекалась на поражение.
Подчинив своей воле и демагогической логике большинство партии и опираясь на него, Сталин овладел решающими политическими позициями. Роль вождя позволяла ему определять пути развития и методы его осуществления. Суть развития объективно обусловливалась целями модернизации, которая отвечала смыслу общемирового про- гресса. В то время понятие «модернизация» еще не было в ходу. Употреблялся более скромный термин «реконструкция народного хозяйства». Было вместе с тем ясно, что таковая не могла состояться без тесной увязки с реорганизацией социально-культурной сферы. В условиях складывавшейся в СССР административно-командной системы модернизация, наделенная сегодня некоторыми историками эпитетом «консервативная», с неизбежностью вела к торжеству тоталитаризма.
Направления и пути модернизации в общем виде были очерчены в виде триады: индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция. Главным форумом, на котором обсуждались задачи намечавшегося наступления социализма «по всему фронту», стал ХV съезд ВКП(б), проходивший в первой половине декабря 1927 г. Своего рода фокусом, в котором сходились предложения по всем принципиальным вопросам развития на ближайшую перспективу, явился пятилетний план. В нем воплощалась идея планового руководства – важнейшего принципа социализма. Хотя формально говорилось о разработке директив по составлению плана развития народного хозяйства, фактически речь шла о всем комплексе задач по переустройству жизни страны.
Следует подчеркнуть, что большое внимание было уделено развитию культуры. Общая тональность выступлений существенно отличалась от рассмотрения культурной тематики в предшествующие годы. Обычно деятели культуры на подобных собраниях сетовали на недостаток внимания со стороны государственных организаций к нуждам «культурного фронта», не встречая, по большому счету, положительной ответной реакции. Сейчас ситуация повернулась почти на 180º. Все дело было в том, что планам хозяйственного переустройства грозила опасность повиснуть в воздухе, если не подкрепить их реальной и масштабной поддержкой со стороны всех культурных отраслей. На этот раз призыв к такой поддержке прозвучал прежде всего со стороны ведущих политиков и хозяйственных руководителей.
Лозунг «культурной революции», провозглашенный Лениным в начале 1920-х гг., зазвучал уже не как общая задача строительства социализма, а как призыв текущего дня. Так оно и произошло на практике. Недаром в памяти части современников, а потом и в исторической литературе начало «культурной революции» ассоциируется не с моментом установления советской власти, что исторически соответствовало реальности, а с концом 1920-х гг. Объем задач, охватываемых этой революцией, был велик и разнообразен – от ликвидации массовой неграмотности до кардинальных изменений в деятельности учреждений науки и искусства. Смысл «культурной революции» состоял в переключении сил и средств культурного воздействия на обеспечение нужд политического руководства, усиление воспитательной работы в массах, на прямую поддержку хозяйственного строительства.
Соединить в единое целое все виды деятельности и обеспечить ее эффективность могли только подготовленные соответствующим образом люди: от квалифицированных рабочих до специалистов высшего звена – инженеров, врачей, учителей и всех других представителей умственного труда, т. е. интеллигенции. Недаром именно в эти годы одними из самых популярных стали слова Сталина: «Кадры решают все». Собственно, в этой фразе не было ничего нового: кадры, квалифицированные работники всегда в конечном счете определяли исход дела. Но произнесенные вождем в стиле категорического императива эти слова приобрели значение лозунга, призывавшего к действию.
Партийно-государственное руководство осознавало серьезность и остроту положения с кадрами. Ранее принятые меры выглядели недостаточными, в том числе и отработанные в недавнем прошлом методы нажима на старую интеллигенцию. В повестку дня следовало включить более эффективные приемы «вовлечения» в социалистическое строительство уже не части сохранившейся интеллигенции, привычно продолжавшей называться «буржуазной», а всех без исключения интеллектуальных сил страны.
С известной долей условности можно говорить, что обстановка конца 1920-х гг. воскресила эпоху «военного коммунизма» с его методами поголовного привлечения специалистов на военный и трудовой фронты. Классовая непримиримость, усугубленная еще одним сталинским тезисом об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, достигла высшего накала. Для старой интеллигенции это означало, что время размышлений и надежд на смягчение большевистского режима, порожденных нэпом, истекло.
Таким образом определяется место «Шахтинского дела» в истории страны в целом и истории интеллигенции в частности. И рассматривать его следует не как некое спонтанное явление, возникшее «где-то» и раскрытое «кем-то», и не как начало репрессивной политики сталинизма, а как важнейший очередной «узел» (термин А. И. Солженицына) в цепи этой политики, органично присущей большевизму и осуществлявшейся с самого начала утверждения его господства в России. Именно здесь следует искать объяснение основных причин и условий возникновения «Шахтинского дела».
В современном отечественном интелли-гентоведении «Шахтинское дело» рассматривается как переломный момент в переходе власти к усилению политики репрессий и дискриминаций в отношении интеллигенции. На основе материалов региональных архивов исследователи анализируют влияние «Шахтинского дела» на провинциальную интеллигенцию [Лютов, 2007. Научнотехническая…, 1993; Пыстина, 1999]. Однако нередко такие исследования сводятся к цитированию информационных сводок ОГПУ и партийных комитетов, иллюстрировавших настроения различных групп советского общества. Поэтому наибольший интерес представляют работы, в которых анализируются истоки антиинтеллигентских настроений [Абрамов, 1996; Бакулин, Лейбович, 1990; Пыстина, 1994].
Следует отметить, что в литературе по-прежнему наименее изученным сюжетом является вопрос о предпосылках «Шахтинского дела». Слабо раскрыт комплекс причин и условий, приведших к его возникновению и к еще более значительным трагическим последствиям. Для того чтобы более глубоко понять место «дела» в истории, следует сместить внимание на разработку направления, название которого содержится в заголовке данной статьи. Новизна и специфика заключены в рассмотрении «шахтинской» проблематики в ракурсе социальнокультурного подхода, одной из частей которого является оценка характера взаимоотношений между властью и интеллигенцией.
Большевистская власть нуждалась в интеллигенции. Пребывая в состоянии заблу- ждения относительно построения коммунистического общества в одной стране, большевики вместе с тем понимали, что без специалистов браться за такое дело нельзя. Но выводы из этого делались глубоко прагматические. Они сводились к положению: пока нет так называемых красных специалистов (которых они собирались подготовить в «пожарном» порядке), придется пользоваться услугами старых, привычно называемых «буржуазными». В дальнейшем, считали они, наступит время, когда произойдут естественные перемены в составе интеллигенции – физические и моральные. Оставшаяся часть старой интеллигенции «советизируется», и проблемы, с ней связанные, исчезнут сами собой.
В пределах этой установки находились все меры, принимавшиеся властью, в том числе и направленные на поддержание повседневного существования «спецов». Такого рода конкретные факты из разных областей жизни наряду с их чисто практической значимостью призваны были создать представление о положительной роли власти в судьбах интеллигенции в целом. При этом отрицалась специфика интеллигенции как особой социально-профессиональной общности, как творческой силы высшего порядка, как носительницы духовности и гуманизма, как основного «производителя» культурных ценностей. Не признавалось, что интеллигенция является органической частью любого общества в цивилизованном мире и потому имеет право на саморазвитие, определяемое внутренними побуждениями.
Даже большевистские вожди, среди которых были люди образованные (Ленин, Троцкий, Бухарин и др.), были не в состоянии постигнуть особенности интеллигентской психологии, присущей в наибольшей степени высшему умственному слою интеллигенции – ученым, крупным инженерам, писателям, художникам. Механистическое мышление большевистских лидеров не позволяло понять целостный характер натуры истинного интеллигента. Она не поддавалась «рассечению» на части – нужные и ненужные, как это представлялось власти. Интеллигент, «отделенный» от права свободно мыслить и творить, не мог продуктивно трудиться, если, конечно, он не проникся убеждениями этой власти. Поскольку многие старые специалисты остались при преж- них взглядах либо приняли новые ценности формально, прагматический подход к ним оказывался ущербным. Тем не менее, он был взят на вооружение, ибо иная политика означала для большевиков признание своего поражения. Проводившаяся в течение десятилетий политика использования (наиболее точный термин) специалистов привела к цели. «Гибридная» интеллигенция, в составе которой неуклонно возрастала доля профессионалов советской выучки, встала в «общие ряды» и внесла свой вклад в строительство «сталинского» социализма. Но было ли это конечным итогом, подведение которого относится к современному, новейшему времени?
Сегодня общепризнанными стали факты глубоких изменений в интеллигенции. Широкая полоса этих изменений началась в по-слесталинскую эпоху. Затем, в годы «перестройки», они для многих приобрели характер перемены убеждений. Дух подлинной интеллигенции, нонконформистской по своей природе, освободился фактически от цепей догматики и страха. Интеллигенция как мыслящая субстанция возрождается и проявляет в разных формах оппозиционные настроения, связанные, в частности, с утверждением своего самостоятельного социального статуса. Соответствующая деятельность, наиболее заметная в научной и художественной среде, сыграла не последнюю роль в событиях, приведших к ликвидации советского режима 1. Даже не прибегая к анализу деталей происходящего процесса, есть основания полагать, что интеллигенция как особый социально-профессиональный слой, который обозначают и другими понятиями (интеллектуалы, элита и пр.), трансформируясь под воздействие разных причин, сохраняется во всех цивилизованных обществах. И потому опыт большевизма по социальному обезличиванию интеллигенции, превращению ее в инструмент достижения политических целей (это подчеркивалось широким употреблением слова «спецы», обозначавшим всего лишь профессиональную принадлежность) над- лежит признать исторически несостоятельным. А следовательно, вся политика в отношении интеллигенции должна быть подвергнута критическому анализу.
Такая работа в нашей стране развернулась в начале – середине 1990-х гг. Пока что обобщающих трудов нет. К их созданию ведет, в частности, издание сборников статей и документов, отдельных журнальных публикаций. Первым, по-видимому, стал сборник, подготовленный группой сотрудников и аспирантов сектора истории советской культуры Института истории, филологии и философии СО РАН [Дискриминация…, 1994]. Новаторский характер сборника определялся принципиально иным, чем в прошлом, подходом к теме.
Проявления антиинтеллектуализма, ущемлений и гонений интеллигенции рассматриваются авторами не в ряду так называемых деформаций социализма, а как дискриминация, органически присущая советскому режиму, как одно из выражений доктринальной сущности большевизма. Дискриминация, трактуемая как ограничение прав, не отделена от репрессий. Они были частями единой политики, направленной против прямых, косвенных и мнимых противников режима и имевшей целью не только наказание в карательной форме, но и в большинстве случаев преодоления оппозиционности и инакомыслия. Подавить сам дух неприятия власти – на это были направлены в первую очередь многочисленные меры, осуществлявшиеся в интеллектуальной среде с первых дней революции.
Другим однотипным изданием стал сборник статей сотрудников Института истории РАН [Власть и общество…, 1999]. Более широкий по тематическому охвату, он включил в себя статьи, непосредственно посвященные судьбам интеллигенции и прежде всего политике репрессий против нее. В их числе работы Г. Б. Куликовой и Л. В. Ярушиной «Власть и интеллигенция в 20–30-е гг.», Э. И. Гракиной «Ученые и власть» и др. Тема интеллигенции, ее взаимоотношений с властью рассматривается сейчас многими другими интеллигентове-дами.
Очевидный прогресс в изучении истории российской интеллигенции характеризуется отказом от апологетической трактовки советской политики. Негативные факты, число которых множится благодаря открытию ар- хивов, изданию новых и более правдивых, чем прежде, мемуаров, требуют серьезных объяснений. Ясно, что былые «аргументы» вроде случайности происхождения этих фактов, ошибочности действий отдельных лиц и т. п. не укладываются в представление, идущее от самой власти, относительно ее политики, построенной де на научной основе. Перед историками, таким образом, ставится вопрос: насколько научной и апробированной мировым опытом была политика большевиков, базировавшаяся на марксистском учении? Немало трудов не только противников марксизма, но и тех марксистов, которых принято относить к так называемым ревизионистам, содержат критические суждения относительно научной состоятельности базовых принципов марксизма, составивших фундамент доктрины большевизма. Это идея классовой борьбы как движущей силы общественного развития и связанная с ней идея диктатуры пролетариата.
Объясняя необходимость осуществления диктатуры пролетариата для победы социалистической революции, К. Маркс рассматривал ее как явление временное. Социализм – общество без классов, оно вообще не нуждается в государстве. При социализме произойдет его отмирание, исчезнет нужда в подавлении даже меньшинства. Классовое господство будет заменено широчайшим самоуправлением трудящихся. Таким образом, диктатура любого класса и социализм – понятия не совместимые. При этом идея диктатуры пролетариата рассматривалась основоположниками марксизма в приложении к странам, где пролетариат составлял большинство населения и где его политическая зрелость и общая культурность обеспечивали сознательный характер действий. В противном случае диктатура неизбежно должна была выродиться во власть одной партии, правящей клики и в конечном счете – вождя.
В России необходимых условий для социализма не было. Поэтому, ссылаясь на Маркса, большевики могли использовать положения его теории только «творчески», т. е. приспосабливая их к обстоятельствам. Вся история большевистского правления наполнена примерами подобного «творчества», в котором заглавная роль принадлежала сначала Ленину, а потом Сталину. Взять хотя бы известную работу Ленина «О нашей революции» [Ленин, 1964. С. 378–382], в которой он дал «отповедь» Н. Н. Суханову, бывшему меньшевику, обвинившему большевиков в нарушении общей законности развития во всемирной истории, как она представлялась Марксу и Энгельсу. Конкретно «нарушение» состояло в том, что большевики решились на социалистическую революцию, хотя Россия не «доросла до социализма». Едва ли есть другая работа Ленина, в которой бы он так открыто и зло обвинял своих оппонентов в педантстве, шаблонном толковании марксизма, непонимании «революционной диалектики», приверженности к «немецким образцам», неспособности стоять на почве реальности.
Реальность же состояла в том, что большевики действовали, по словам самого Ленина, согласно принципу Наполеона: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет» [Там же. С. 381]. Теория, таким образом, использовалась «выборочно», а главное – в удобном для себя смысле и при субъективном толковании. Крайне необходимыми были признаны такие постулаты, как «диктатура пролетариата» и «классовый подход». Пользуясь благоприятной обстановкой, большевики захватили власть и смогли удержать ее в ходе Гражданской войны. Популистские политика и практика обеспечили им поддержку значительных масс населения. Проявляя волю и изобретательность, большевики сумели на основе новой экономической политики восстановить экономику и поставить вопрос о строительстве в СССР социализма.
Классовая теория, диктовавшая классовый подход, и диктатура пролетариата продолжали оставаться на вооружении большевистской партии. Они были своего рода рычагами, с помощью которых намечалось «перевернуть мир». Абсолютизируя понятие классового подхода, большевики под предлогом неутихающей враждебности представителей свергнутых классов, с каждым годом сужали поле демократических возможностей, которыми в начале 1920-х гг. население отчасти обладало. Диктатура же пролетариата совершала свою неизбежную эволюцию в направлении тоталитарности. О том, как это происходило, говорили многие. Но особая боль за поруганные идеалы, да и собственное былое недомыслие звучали в книгах и статьях вчерашних союзников, поддержавших большевиков в дни Октябрьской революции.
Вот, например, малоизвестная оценка происходившего, данная в 1923 г. первым наркомом юстиции РСФСР левым эсером И. З. Штейнбергом: «Диктатура партии, а позже и небольшого круга партийных деятелей, т. е. незначительного меньшинства, приводит к тому, что власть избегает всех сознательных и идейно стойких своих противников, а на места управления ставит людей, ей преданных… Это ведет к росту и укреплению чиновничества, к диктатуре бюрократии, засилью временщиков, к еще большему отрыву правительства от масс. Но чтобы вся эта система держалась, необходимо постоянное использование орудия террора… И вследствие этого, в среде самой бюрократии выделяется тот особенный слой ее, который непосредственно владеет этими орудиями террора, непосредственно пускает их в ход. Диктатура бюрократии при диктатуре террора означат на самом деле диктатуру полиции…» [Штейнберг, 1923. С. 99–100].
«Диктатура полиции» – удачная и меткая характеристика системы насилия, сложившейся в послереволюционной России, где действовала логика захваченной власти. Особое внимание уделялось здесь интеллигенции. Корни антиинтеллектуализма уходили в отдаленные эпохи. В основе неприязни, проявлявшейся в рабоче-крестьянской среде, лежали не только экономические причины. Буржуазный образ жизни многих интеллигентов в сочетании с образованностью, а также включенность части специалистов во властно-аппаратные структуры формировали в сознании простых людей представление об интеллигенции как о чуждом и даже враждебном слое. По сути эти качества отражали внешнюю характеристику интеллигенции. Значение же интеллигенции как культурной силы, как необходимой полезной в профессиональном отношении части общества, как носительницы прогресса, т. е. качества фундаментальные, не выглядели как достоинства, которыми следовало дорожить.
В итоге основной вектор массового сознания направлялся не на приятие, а на отторжение интеллигенции. Такое положение большевики использовали для упрочения своей власти, тем более что оно соответствовало утверждению идей «гегемонии про- летариата» и «диктатуры пролетариата». В подтверждение можно привести хотя бы тот факт, что рабоче-крестьянское происхождение везде и всюду рассматривалось как преимущество, тогда как принадлежность к интеллигенции выступало помехой, а то и несчастьем. Коммунистическая партия в массе своей репродуцировалась из рабочих, затем из крестьян. Поэтому естественно, что психология антиинтеллектуализма пронизывала партию снизу доверху.
Характерно, что с идеологической атаки, направленной на интеллигенцию в первую очередь, началась деятельность советской власти. Имеется в виду принятие на первом же заседании Совнаркома «Декрета о печати», направленного против свободы прессы 2 . «Великая иллюзия» – вера в святость одного из главных принципов демократии, который разделялся всей антимонархической интеллигенцией, была разрушена в одночасье. Затем, уже в начале нэпа, когда исчерпали себя ссылки на остроту положения, вызванного Гражданской войной, власть развернула террористическую кампанию против православной церкви, бывшей одним из традиционных оплотов российской духовности. Тогда же началась ломка высшей школы, сопровождавшаяся гонениями на профессуру. Борьба с ней, в сущности, выходила за рамки здравого смысла. Ликвидация автономии вузов ставила целью лишение ученых руководящего положения в самой научно-образовательной сфере, сведение их роли к исполнительским функциям. Наконец, произошло событие, получившее название «философского парохода», – изгнание из страны около 200 представителей научной и художественной элиты.
Уже в 1920-е гг. на страницах прессы, в официальных документах, в речах ораторов запестрело слово «спецеедство». Оно означало проявление антиинтеллигентских настроений и действий – недоверия, неприязни, враждебности по отношению к специалистам, что приводило порой к их травле и служебному преследованию, хулиганским поступкам со стороны рабочих на производстве, вплоть до избиений и даже убийств.
Существуют источники, которые характеризуют антиинтеллигентскую политику власти изнутри. Имеются в виду выступле- ния тех руководителей партии и государства, которые задавали тон в политике. В этой связи уместно привести весьма знаменательный пример. Это заявление Г. Е. Зиновьева, сделанное в отчетном докладе ЦК РКП(б) на XIII съезде партии в мае 1924 г. Зиновьев в своих публичных выступлениях обычно не прибегал к угрозам в адрес интеллигенции, предпочитая «мягкий» стиль. Он старался подчеркнуть достижения в политике сближения власти и интеллигенции. Таким, в частности, был его доклад «Интеллигенция и революция», сделанный на Всероссийском съезде научных работников 23 ноября 1923 г. [Судьбы русской интеллигенции…, 1991. С. 137–158]. Однако совсем по-другому тот же оратор выглядел в случае, если дело касалось главных, политических вопросов. Когда интеллигенция как бы вдруг поднимала голову, ставя во главу угла принципиальные вопросы бытия, тон одного из главных партийных вождей менялся.
В разделе доклада на партийном съезде, названном «Бабье лето меньшевизма», посвященном «известному возрождению» новой буржуазии на «дрожжах» нэпа, Зиновьев затронул вопрос о «правах», которых жаждет не только эта буржуазия, но определенные слои интеллигенции. Характерно, что в качестве «показательного явления» были взяты речи инженеров – делегатов соответствующего съезда, состоявшегося в Ленинграде. Имелись в виду не те, кто говорил о плохом материальном положении инженеров, а те, кто ставил политические проблемы. Их Зиновьев назвал «авангардом новой буржуазии».
Приведена была большая и, надо сказать, яркая цитата из речи одного инженера. Оратор заявил, что причина существующей вялости в работе технических специалистов заключается в том, что «у нас нет видов на будущее», «мы не можем сговориться с коммунистами». В чем же дело? И далее прозвучало объяснение, поражающее смелостью и откровенностью: «Коммунисты как материалисты считают необходимым и нужным дать людям в первую очередь предметы первой необходимости, а мы, интеллигенты, говорим, что в первую очередь нужны права человека. Вот наша основная программа. В этом вся сила. Сейчас мы этих прав человека не имеем, и пока мы их не получим, мы будем инертны…». В даль- нейшем автор высказался в том духе, что интеллигент – это «человек, который ставит выше всего права человека, считает, что человек – высшая ценность в государстве». Приведенная Зиновьевым цитата завершалась выводом: «…Лозунг “Владыкой мира будет труд” – неправильный. Он связывает руки. Владыкой мира будет свободная мысль свободного человека, – вот лозунг, под которым мы можем работать. И для этого нам нужны права человека. И пока мы не имеем прав человека, наша работа всегда будет связана, будет инертна» 3 .
Зиновьев сумел адекватно, с большевистской точки зрения, определить смысл требований оратора-инженера. Он отметил, что Ленинград – один из самых «чутких политических центров», а русские инженеры с давних времен – «самая чуткая группа буржуазной демократии» 4 . И в ней, в буржуазной демократии, вся соль. Каких прав хотят инженеры? Не избирательных – они в общем-то у них есть, а «тех самых “прав”, которые имеют буржуазные инженеры, скажем, во Франции». Вывод Зиновьева прозвучал категорически: «…Незачем по этому вопросу терять лишние слова. Совершенно ясно, что таких прав они, как своих ушей без зеркала, в нашей республике не увидят. Это бесспорно… Политических уступок мы не сделаем» 5 .
Жизнь, таким образом, не предлагала вариантов. Бороться с таким монстром, каким уже стало советское государство, было для подавляющего большинства бессмысленным и безумным. Оставалось одно: подчиниться власти, стать конформистами – сознательно или вынужденно. Как свидетельствуют факты, враждебных власти и активно действовавших организаций или групп в среде интеллигенции не было ни в 1920-е, ни тем более в 1930-е гг.
Зачем же тогда нужно было прибегать к массовым репрессиям против специалистов, прологом к которым и стало «Шахтинское дело»? Причины для этого имелись. Сталин и его окружение опасались, что борьба с оппозицией в партии, развернувшаяся в середине 1920-х гг., может породить в интеллигентских кругах надежды на полити- ческий реванш. Громя оппозицию и нагнетая страх в обществе, Сталин рассчитывал уберечь себя от возможных последствий.
К применению силовых методов подталкивала и складывавшаяся экономическая ситуация. Кризис нэпа, выявившийся в конце 1920-х гг. и затронувший особенно сферу сельского хозяйства, не только осложнил отношения с крестьянством, но отразился и на рабочем классе. Ухудшение материального положения грозило его политическим отчуждением от власти. Такую опасность следовало предусмотреть и предотвратить, для чего использовать такой маневр, как «перенацеливание» недовольства рабочих властью на тех, кто непосредственно руководил производством, на инженеров и техников. Почва для этого была подготовлена устойчивыми предрассудками и уже известным «спецеедством».
В результате в недрах режима складывалась почва для смыкания «спецеедства сверху и снизу». И здесь не имеет принципиального значения, кто инициировал «Шахтинское дело». Возникло ли оно по инициативе местных аппаратчиков, или было каким-то образом инициировано сверху. Большевизм не мог существовать без того, чтобы не «подстегивать» себя подобными «делами». Враги кругом, они вредят на производстве, устраивают заговоры, вступают в отношения с империалистами – такого рода пропагандистская «смесь» внедрялась в сознание масс, уводя их от истинных виновников тяжелой жизни страданий и жертв. Не будь «Шахтинского дела», его следовало придумать. Такова закономерность, корни которой находились, как уже говорилось, в глубинах большевистской доктрины.
Поворот в сторону открытых и массовых репрессий против интеллигенции после полосы «затишья» середины 1920-х гг. не относился к «новациям». К сказанному ранее о природе большевизма следует добавить, что модернизация, бывшая стержнем партийно-государственного курса, имела две стороны: объективную и субъективную. В то же время модернизация, как и другие крупные проекты, начиная с Октябрьской революции, осуществлялась не на основе научно выверенных расчетов, а исходя из убеждения о всесилии волевого начала. «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики» – такого рода лозунги пронизывали и пропаганду, и конкретные планы хозяйственного и культурного переустройства страны. Отсюда и ориентация на разного рода штурмы, ударные методы, силовые приемы.
В сумме они формировали особый тип политики, получившей название «мобилизационной». Привычное отнесение такой политики к состоянию войны меняло адресат. Отныне оно переносилось на мирное время, а сама политика из временной превращалась в постоянную. Под ее знаком прошла вся последующая советская история. «Старт» новой фазе мобилизационной политики дал XV съезд ВКП(б). «Шахтинское дело» стало одним из первых шагов на пути ее реального осуществления.
«SHAHTINSKOE DELO» IN A FORESHORTENING OF THE SOCIO-CULTURAL APPROACH