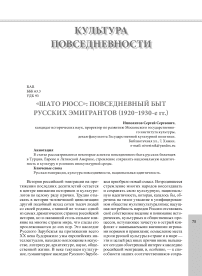"Шато Рюсс": повседневный быт русских эмигрантов (1920-1930 - е гг.)
Автор: Ипполитов Сергей Сергеевич
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Культура повседневности
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые аспекты повседневного быта русских беженцев в Турции, Европе и Латинской Америке, стремление сохранить национальную идентичность и культуру в условиях инокультурной среды
Русская эмиграция, культура повседневности, национальная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170174182
IDR: 170174182 | УДК: 93
Текст научной статьи "Шато Рюсс": повседневный быт русских эмигрантов (1920-1930 - е гг.)
История российской эмиграции на протяжении последних десятилетий остается в центре внимания историков и культурологов по целому ряду причин. Трудно отыскать в истории человеческой цивилизации другой подобный исход сотен тысяч людей со своей родины, ставший не только одной из самых драматических страниц российской истории, но и оказавший столь сильное влияние на многие страны мира, что следы его прослеживаются до сих пор. Это наследие Русского Зарубежья на протяжении всего ХХ века будоражило умы европейских интеллектуалов, находило воплощение в искусстве, литературе, архитектуре, науке, общественной жизни. В веке текущем культурное, гуманитарное наследие Русского Зарубе- жья приобрело новый смысл. Возродившееся стремление многих народов воссоздавать и сохранять свою культурную, национальную идентичность, которая, казалось бы, обречена на тихое угасание в унифицированном обществе мультикультурализма; насущная потребность народов России отстаивать своё собственное видение и понимание исторических, культурных и общественных процессов, вступающее зачастую в острый конфликт с навязываемыми внешними игроками нормами и правилами; осмысление места и роли русской культуры в стране и в мире — эти и целый ряд иных причин вновь вызывают сегодня обостренный интерес к наследию российской эмиграции, и, особенно, — к способности наших соотечественников сохра- нять в условиях враждебной среды собственную идентичность, мироощущение, культуру и традиции. Культурное наследие эмиграции дает для изучения этого комплекса гуманитарных вопросов прекрасную возможность. И нигде это стремление русских людей к созданию собственного, обособленного культурного пространства не проявлялось так ощутимо, как в культуре повседневности, в культуре быта и жилища.
Жилище, среда повседневного быта, повседневность в ее культурном измерении всегда предоставляли историку богатую возможность для изучения общественных и культурных процессов через призму бытия конкретного человека, семьи, коллектива. Персонализация исторического процесса позволяет взглянуть на него глазами непосредственных участников; окунуться и почувствовать ту социокультурную среду, в которой проходил процесс адаптации наших соотечественников в чуждом и зачастую враждебном обществе.
После исхода остатков Русской армии из Крыма и эвакуации гражданских беженцев, положение российских эмигрантов на берегах Босфора оказалось катастрофическим. Голод, непривычный климат, холод, болезни, нищета и острая тоска по родине сопровождали беженцев на всем протяжении их «константинопольского сидения». Осложнял положение и жилищный кризис, спровоцированный массовым притоком в Константинополь и его окрестности обездоленных людей, многим из которых приходилось ночевать прямо на улице из-за непосильных цен на жилье. Отчасти спасала ночлежка, обустроенная в бывших турецких казармах Мак-Магон и представлявшая собой «огромный зал, освещенный тремя пятисвечевыми электрическими лампами. Грязное, десятки лет не ремонтировавшееся помещение, кое-где с потолка льется вода, выбитые и заклеенные картоном окна, грязный и изъеденный крысами с зияющими дырами пол. Наконец, посередине и вдоль стен сплошные деревянные нары с тучами клопов и вшей» [1].
Лагерь Чаталджа находился в окрестностях Константинополя и представлял собой голое открытое место. По периметру лагеря были установлены ряды круглых французских палаток — марабу, в которых по восемь человек размеща- лись солдаты и казаки. Опасаясь бунта голодных русских солдат в непосредственной близости от столицы, французское командование на первых порах снабжало их продовольственными пайками. Но ежедневно и ежечасно французы давали понять, что русские на берегах Босфора — лишь никому ненужные приживальцы.
Жизнь в лагерях была сопряжена с выполнением тяжелых работ по нарядам и моральными унижениями, которым попавшие в лагерь подвергались как со стороны охраны, так и русских комендантов и их помощников. Лагеря были построены наспех и не рассчитаны на длительное использование; в них зачастую не хватало самого необходимого. Например, один из них — Бер-надотт — представлял собой «пустынную местность. Кое-как наспех полуотремонтированные деревянные бараки. Свыше тысячи беженцев, скученность в бараках и палатках превосходит всякую возможность, пресной воды нет, за ней надо ходить в город [2]. Такие условия деформировали человеческие отношения. Несмотря на запрещение комендантов, беженцы, назначенные в наряд, нередко посылали вместо себя детей. При этом, если женщины в освободившееся время занимались домашним хозяйством, то мужчины тратили его на карты, выпивку, политические «дискуссии» с мордобоем и обсуждение слухов («пластинок», по местной терминологии).
Не менее драматично складывался быт российских беженцев в лагерях Египта. Их жилищем в первые годы изгнания становились брезентовые палатки в пустыне. Люди были лишены возможности не только достойного существования, но и погребения своих родных по православному обряду. Власти страны и мусульманское в своей массе население страны не позволяли хоронить умерших православных беженцев на своих кладбищах. Невозможность достойно проводить своих близких в последний путь становилась культурным шоком для наших соотечественников. Вот как описывал журналист, писатель и литературный критик Александр Яблонов-ский жизнь русских беженцев в английском лагере в Египте: «Бедность непокрытая, сиротская, граничащая с совершенной нищетой. Русские деньги, которые мы привезли с собой из России, вызывают здесь только улыбки сожаления, и оттого мы стараемся устроить свою жизнь без всяких денежных затрат, а так сказать, по способу
Робинзона. Например, русская церковь в Тель эль-Кебире переделана из старенького камышового сарайчика. Крыша — из тростника, стены — из рогожки, а вместо колокола висит на столбе кусок рельса, и гимназист-пономарь железной палкой «звонит» к вечерне. Наших покойников хоронят здесь без гробов и почему-то не на общем кладбище, где цветут олеандры и посажены пальмы, а отдельно. В желтой пустыне, в стороне от наших палаток, огорожен колючей проволокой песчаный квадрат. Это наше кладбище. Сюда на больничных носилках приносят русских покойников, заворачивают в старенькое госпитальное одеяло и зарывают в песке. Родные складывают из белых морских камешков крестики на могилках или пишут имена умерших на жестянках из-под консервов и прибивают эти жестянки к деревянному кресту… Это, без сомнения, самое грустное и самое бедное кладбище из всех, какие я видел на своем веку… Вечный покой и вечное молчание пустыни…» [3].
Расселение российских эмигрантов в страны Европы в середине 1920-х гг. закрыло эту наиболее драматичную страницу в жизни Русского Зарубежья. Нищета первых лет изгнания, когда речь шла о физическом выживании, постепенно уходила в прошлое. Европейский рынок труда предоставил беженцам возможность в той или иной степени обеспечить свой быт и обустроить жилище. Именно на этом отрезке времени — с середины 1920-х до конца 1930-х годов — культурная повседневность русской эмиграции приобретает те уникальные черты, которые позволяют говорить о ней как о составной части понятия «русское культурное наследие в зарубежье». Именно в этот период истории во французской провинции, в рабочих поселках вокруг крупных промышленных предприятий, возникают поселения российских эмигрантов, несущие совершенно особые, национальные, этнические черты русской провинции.
Русская пресса во Франции тех лет часто размещала на своих страницах репортажи из таких поселений. Вот типичная статья в «Последних новостях» на эту тему: «На пригорке хозяйственный казак построил себе домик, завел огород, кур и хрюкающих свиней. В вечерних сумерках дом кажется совсем светлым, словно выбеленная хата на хуторе близ Диканьки. Хо- зяйка-галичанка говорит с малороссийским акцентом, и только возящиеся у калитки дети напоминают, что хутор на пригорке очень далек и от Диканьки, и от Кубани:
— Papa! Papa! George a crevé mon ballon. Achete-moi un autre! [4].
— Ладно, куплю. А Жоржу уши надрать за баллон надо…»[5].
Обустройство собственного жилья в приютившей их стране, создание упорядоченного, обеспеченного существования позволяло нашим соотечественникам постепенно возвращать и духовную, культурную атмосферу провинциального русского быта, казалось бы, безвозвратно утерянную на эмигрантских дорогах. Строительство православных храмов и русских школ в Европе, создание и развитие национальных общин и гуманитарных общественных организаций, профессиональных клубов и союзов, становившихся центрами общения, сохранения национальных традиций, культуры и языка в середине 1920-х — 1930-х гг. становятся неизменной приметой русских эмигрантских колоний. Вот как описывал журналист «Последних новостей» атмосферу русского поселения во Франции: «Русские люди многое потеряли за эти годы, не утратили только радушного гостеприимства, особенно в провинции и особенно в деревне. В смысле внешней культуры тут даже лучше. В доме паркетные полы, уютная, со вкусом подобранная обстановка, электричество, центральное отопление, ванна, горячая вода в умывальниках, радио. Все эти блага в маленьких хозяйствах в России встречались редко» [6].
Но не всем русским эмигрантам удавалось так уютно обустроить свой быт. На европейском рынке труда иностранцы могли рассчитывать лишь на низкооплачиваемую малоквалифицированную работу. Многочисленные правовые преграды, неопределенность юридического статуса, языковой барьер препятствовали вхождению беженцев в круг высокооплачиваемых работников, за исключением узкой прослойки российских предпринимателей, сумевших вывезти из России свои капиталы и воссоздать бизнес за границей. Поэтому обустройство собственного жилья превращалась для большинства из них в многолетний тяжелый труд, далеко не всегда увенчавшийся успехом. Так, например, во французской деревушке, носившей пышное название Монжей ле Тур, один русский, которого местные жители называли «месье Димитри», построил на окраине своеобразное жилище, которое местные жители, шутя, называли «шато рюсс». Месье Димитри поступил на службу помощником повара в пансион. Он купил себе клочок бросовой земли за деревней и сам возвел шалаш, в котором и жил. «Шато» представляло собой сплетенную из прутьев хижину, с застекленным окном и настоящей дверью. Никаких запоров, если не считать заржавленного, висящего явно для фасона громадного замка. Дверь открывается свободно. Внутри все в полном порядке, как оставил владелец: железная кровать с матрацем, под нею пара старых сапог, в углу чугунная печурка, у окна стол, на столе керосиновая лампа. Такое имущество можно свободно бросить без запора: его никто не тронет. По мнению местных обитателей, француз, как бы он ни был беден, такой избушки не построит. Это несерьезно. Но хозяин русский, а русские известные чудаки, и о «шато рюсс» обыватели говорят с благодушной улыбкой, а о владельце отзываются с полным уважением. В свое время месье Димитри, прозевав, по русскому обыкновению все сроки, не обменял свою рабочую карту и получил за это такой штраф, что об уплате нельзя было и думать. Грозила высылка. Месье Димитри собирался на велосипеде удирать за первую попавшуюся границу, но в дело энергично вмешался деревенский мэр, выхлопотавший ему не только новую карту, но и освобождение от штрафа. «Как можно выселять месье Димитри и облагать его штрафом в восемьсот франков? — писал мэр полицейскому начальству. — Это вполне почтенный иностранец и местный домовладелец, хотя и очень бедный, но отличный работник и честный гражданин…»[7].
Стремление к собственному жилью и собственной земле как основе национальной и культурной идентичности было неотъемлемой чертой российской эмиграции. Неизбывное стремление к земле в душе русского человека в середине 1930-х гг. будет использовано недобросовестными правительствами и кампаниями для очередного обмана русских фермеров, с огромным трудом обустроивших хозяйство в Европе на арендованных клочках земли — об этом будет сказано далее. А стремление к собственному дому у русских эмигрантов в Европе становилось зачастую смыслом существования. Вот как описывал процесс строительства собственного жилья русский эмигрант во Франции: «Когда-то здесь находился маленький завод. Торчала одна труба, была цистерна для воды, колодец глубиной в сорок метров и каменная ограда. Все это представляло большую ценность, ибо давало мне готовый строительный материал и обеспечивало водой. Материал на аукционах обходится в гроши; таким образом я приобрел железо, дубовые окна, двери, балки, части для сооружения тележки, на которой сам перевожу грузы. Прежде всего, разбираю на кирпичи фабричную трубу и цистерну. Работа сложная, а я один. Приходится выдумывать всевозможные приспособления и усовершенствования. На днях устроил месилку для цемента. Раньше размешивал ручным способом и натер на руках кровавые мозоли» [8].
Стремление к созданию собственной «среды обитания», нежелание полностью раствориться в новой, чуждой, иноязычной и инокультурной реальности, часто воплощалось россиянами в эмиграции в очень нестандартных решениях, таких, например, как покупка и обустройство русскими шоферами такси в Париже собственного дома отдыха в местечке Коломбель. Вот как описывал праздничные мероприятия по поводу его открытия в 1928 году корреспондент газеты «Возрождение»: Объединение русских шоферов и работников автомобильного дела открывают сегодня свой Дом Отдыха. У них — сумасшедшая работа на сумасшедших улицах Парижа. У них только за два года выбыло из строя, скончалось 36 человек. Но сегодня как-то не думаешь ни о трагической работе за рулем русских эмигрантов, ни о трагедии незаметных русских смертей в Париже… Дом Отдыха в 80-ти километрах от Парижа. Это — старая мельница на берегу реки. Веет по ветру над воротами, где надпись «Добро пожаловать», русский трехцветный флаг, а на дворе за наскоро сбитыми столиками — толпа гостей. Что же сказать — молодцы наши шоферы, они раньше всех своими руками устроили то, что так необходимо нам всем [9] .
Послевоенная Европа предоставила трудоспособным и активным беженцам из России возможность для мирного труда и обустроенного быта. Бригады русских рабочих, с огромным трудом добиравшиеся из голодного Константинополя в Берлин, Париж, другие европейские города и столицы, сразу же включались в жесткую конкуренцию на местных рынках труда, оказываясь зачастую более эффективными и востребованными. Европейские предприниматели с большой охотой принимали их на работу, отдавая предпочтение организованным, сложившимся коллективам. По этой причине полтора десятилетия, вплоть до начала Второй мировой войны, для русских эмигрантов в Европе в материальном смысле оказались вполне благоприятными. Настойчивый труд и стремление к построению в изгнании своей собственной «маленькой России» позволили им на этом отрезке времени обустроить комфортную повседневную жизнь, привнеся в нее национальный культурный колорит. Местная русскоязычная пресса часто публиковала бытовые зарисовки эмигрантского быта, наподобие такого описания жилища русского рабочего в Люксембурге: «Квартирка русского рабочего совсем не производит впечатления «рабочей». Искусство наладить жизнь на заработок металлургического рабочего, за годы тяжелой физической работы не только не опуститься и даже внешне выглядеть, словно семья живет по старым укладом среднего достатка интеллигента, растить и обучать сына, не терять интереса ко всему окружающему и принимать самое деятельное участие в общественной жизни, все это — чрезвычайно важное искусство, которым держится многотрудное беженское существование. Бывает, и опускаются люди, не только внешне, но и духовно. Но таких до невероятия мало» [10] .
Бытовые мелочи, повседневные привычки и обычаи, культурные предпочтения и интересы, национальный характер и образ мышления — все это составляло ту социокультурную среду, которая обусловила самобытность и уникальность Русского Зарубежья. Даже кладбище для животных в Париже, устроенное на небольшом островке, у моста Клиши, хранило скромные следы эмигрантской повседневности: один из лучших на кладбище памятников был увенчан русской княжеской короной. На глыбе гранита были высечены фигуры двух собак «Маркиза и Тонни княгини Лобановой».
Там же в середине 1920-х гг. находилась могила русской собаки-беженца, попавшей в Париж с эмигрантами хозяевами. На каменной плите было написано: «Спи, наш миленький Марсик. Тифлис 1918 г. — Париж 1925 г.» [11] .
Середина 1930-х годов ознаменовалась грандиозной аферой, разрушившей устоявшийся быт многих тысяч российских беженцев в Европе. Национальные правительства ряда латиноамериканских стран — Парагвая, Уругвая, Аргентины и ряда других, ради освоения необработанных и пустующих земель, развернули в европейской прессе активную рекламную кампанию по привлечению фермеров на земли своих государств. Обещалось многое: бесплатная земля, кредиты на обустройство, дом, скот, инструменты, организация переезда. И если европейские фермеры отнеслись к этим обещаниям и призывам весьма сдержанно, то на русских вновь возродившаяся надежда получить собственную землю в краях, где в год можно получать четыре урожая, оказала влияние сильнейшее. Тысячи русских фермеров и наемных сельскохозяйственных рабочих бросали налаженный быт и с таким трудом обустроенное жильё, продавали накопленный скарб, и вместе с семьями грузились на пароходы в сторону загадочного и неизвестного Парагвая, о котором они не имели абсолютно никакого представления. Вот какое впечатление оставляла столица Парагвая на прибывающих переселенцев: «Что некрасиво в Асунсьоне? Все некрасиво, начиная с испанских колониального вида построек, и кончая самой природой, какими-то мелколиственными, корявыми, часто очень большими деревьями и запыленными красной пылью пальмами, торчащими словно перевернутые метлы… В городе нет водопровода и канализации. Воду развозят в бочках и добывают из колодцев, но пить ее некипяченой врачи не рекомендуют. Летом, во время случающейся засухи, воды иногда в колодцах не хватает, а на станциях продают стаканами по одному песо» [12] .
Жилище русского переселенца в Энкарнасьоне, городе на юго-востоке Парагвая, это небольшой сарайчик в две комнаты, с земляным полом и без потолка. Вместо окон — две дыры с закрывающимися на ночь ставнями. Но свет проходит не только в дыры, но и в довольно большие щели досчатых стен. Обстановка состоит из двух кроватей, — вернее, их идей, — перевернутого ящика, служащего столом, и нераспакованных парижских чемоданов. В небольшом дворике на жаровне готовится обед… [13].
Увы, обещаниям и надеждам не суждено было исполниться. Собственный надел земли предстал в виде нерасчищенных джунглей с огромным количеством москитов, невыносимой жарой и тропическими болезнями; надежды на четыре урожая в год рухнули под нашествием бродячих муравьев, вредителей и обезьян, уничтожавших урожай на корню, а кредиты обернулись кабалой, осилить которую никто так и не смог. Повседневный быт русских эмигрантов в этих странах деградировал до первобытного уровня, превратившись во временный сарай в парагвайских джунглях, где жили страдающие от болезней, жары и паразитов русские семьи.
Трагические события 1917 года в России, Гражданская война и построение нового общества, привели к разрушению не только общественных устоев, формировавшихся в нашей стране столетиями, но и к разрушению той трудноопределимой сущности, которую принято называть «культура повседневности» или «культурой повседневного быта». Трагедия исхода в разные кон- цы света миллионов российских беженцев по своим масштабам и последствиям не имеет аналогов в истории. Лишения и страдания, выпавшие на их долю, поистине огромны. Но история выживания, самоорганизации этих людей, история сохранения ими даже в самых тяжелых и враждебных условиях собственной национальной и культурной идентичности, в том числе, и в тех малых формах, которые представляют собой повседневный быт и жилище, делают сегодня изучение этого феномена как никогда важным и актуальным.
Список литературы "Шато Рюсс": повседневный быт русских эмигрантов (1920-1930 - е гг.)
- Слободской А. Среди эмиграции. Харьков, 1925. С.119.
- ГА РФ. Ф. 5809. Оп. 1. Д. 44. Л. 153.
- Яблоновский А. А. Письма эмигранта/ Африка глазами эмигрантов: Россияне не континенте в первой половине ХХ века. М.: Изд. фирма «Вост. Лит-ра» РАН. 2002. С. 9.
- Папа, папа, Жорж порвал мой мяч. Купи мне другой!
- Последние новости. 1936. № 5684.
- Там же. № 5706.
- Там же. № 1936, № 5679. С. 4.
- Там же. № 5742.
- Возрождение. Париж. 1928. № 1136. С. 5.
- Последние новости. Париж. № 1936, № 5657. С. 4.
- Там же. 1926. № 1820. С. 4.
- Парчевский К. К. В Парагвай и Аргентину. Очерки Южной Америки. Париж, 1936. С. 69.
- Там же. С. 172.