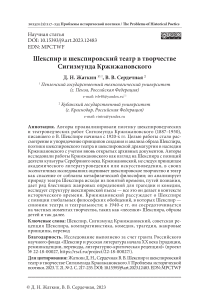Шекспир и шекспировский театр в творчестве Сигизмунда Кржижановского
Автор: Жаткин Д.Н., Сердечная В.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Авторы проанализировали поэтику шекспироведческих и театроведческих работ Сигизмунда Кржижановского (1887-1950), писавшего о В. Шекспире начиная с 1920-х гг. Целью работы стало рассмотрение и упорядочение принципов создания и анализа образа Шекспира, поэтики шекспировского театра и шекспировской драматургии в наследии Кржижановского с учетом вновь открытых архивных документов. Авторы исследовали работы Кржижановского как взгляд на Шекспира с позиций деятеля культуры Серебряного века. Кржижановский, не следуя принципам академического литературоведения или искусствоведения, в своих эссеистичных исследованиях оценивает шекспировское творчество и театр как спасение от соблазна метафизической философии; он анализирует природу театра Шекспира исходя из понятий времени, путей познания, дает ряд блестящих жанровых определений для трагедии и комедии, исследует структуру шекспировской пьесы - все это он делает в контексте исторического времени. Кржижановский рассуждает о Шекспире с позиции глобальных философских обобщений, в которых Шекспир - синоним театра и театральности; в 1940-е гг. он сосредоточивается на частных моментах творчества, таких как «песенки» Шекспира, образы детей и так далее.
Шекспир, сигизмунд кржижановский, советская рецепция шекспира, компаративистика, комедия, трагедия, жанровые принципы, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/147241430
IDR: 147241430 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12483
Текст научной статьи Шекспир и шекспировский театр в творчестве Сигизмунда Кржижановского
С игизмунд Кржижановский (1887–1950) — писатель и мыслитель, исследователь и переводчик с непростой судьбой. Общие контуры его творческой биографии типологически едины для многих писателей Серебряного века, оставшихся в советской России. Речь идет о цензурных ограничениях, которые не позволяли Кржижановскому (как и М. Кузми-ну, С. Дурылину, В. Шершеневичу и многим другим) публиковать свои оригинальные произведения, и о необходимости зарабатывать другими видами деятельности: исследованиями, переводами, либретто, лекциями. Большая часть наследия Кржижановского увидела свет уже в 1990-е гг. и позже1, а наиболее полным на данный момент является собрание сочинений, выпущенное в 2000-х гг.2
Труды С. Кржижановского, опубликованные по большей части с 1990-х по 2010-е гг., были осмыслены в ряде монографических исследований и статей. Предметом исследования стало прежде всего его новаторство как прозаика (см.: [Бу-ровцева], [Воробьева], [Горошников], [Кузьмина], [Ливская], [Лунина], [Моисеева], [Leiderman]), а также судьба его литературного наследия [Трубецкова]. На данный момент существует не так много исследований, которые бы касались театрального направления в наследии Кржижановского (см., напр.: [Азеева], [Эмерсон], [Ballard]).
Особенное место в жизни и творчестве Кржижановского занимал Шекспир. Однако шекспировская проблематика в творчестве Кржижановского затрагивалась не часто (см.: [Делекторская], [Плотников, 2014, 2015], [Emerson]). Лишь в работе И. Б. Делекторской, написанной более 20 лет назад, была сделана попытка осмыслить объем шекспировской рецепции в творчестве Кржижановского (критическая и творческая рецепция); прошедшие десятилетия принесли и новые публикации, и открытие неизвестных прежде архивных текстов3, что заставляет вновь обратиться к теме.
Настоящее исследование посвящено выявлению черт шекспировского наследия, которые были объектом внимания Кржижановского на протяжении его многолетнего творчества. Шекспироведческие исследования Кржижановского, по нашей гипотезе, представляют взгляд на Шекспира с позиций исследователя, сформировавшегося в период Серебряного века.
Кржижановский познакомился с наследием английского драматурга довольно рано. В работе «Фрагменты о Шекспире» он вспоминал, что впервые прочитал том его пьес в подростковом возрасте:
«Перевод, как вижу теперь, был груб и неточен, но я стал читать книгу — и вдруг почувствовал, что у меня есть друг, который может защитить от метафизического наваждения. <…> И конечно, никакой я не шекспировед, я просто человек, обязанный этой великой тени спасением своего мозга» (4: 384).
Эта фраза завершает фрагмент под названием «Шекспир и пятиклассник». В нем герой вспоминает, как он гимназистом прочел «Критику чистого разума» И. Канта: эта книга вселила в его юношеский ум неуверенность в собственных эпистемологических возможностях:
«…предметы будто потеряли контуры, ступеньки лестницы, точно клавиши, поддавались под нажимом ступни. Немецкий метафизик опровергал объективный мир и, взяв у меня, пятиклассника, резинку из рук, стирал тонкую черту между "я" и "не-я", меж объектом и субъектом» (4: 383).
Мальчик начал плохо учиться. Автор говорит о том, что для подростка работа с непростой философией может быть разрушительна:
«Опытному историку философии <…> можно с полной безопасностью вскрывать труп умершей метафизической системы. Но гимназисту, вооруженному только перочинным ножиком, вскрытие это могло грозить тяжелыми последствиями» (4: 384).
Шекспир оказался для подростка своего рода противовесом Канту. Выбор Шекспира как «защиты от метафизического наваждения» определил для Кржижановского, вероятно, и отказ от идеи систематического философствования в пользу литературного творчества и эссеистики.
С противопоставления философствования Канта и творчества Шекспира начинается работа Кржижановского «Философема о театре» (1923). Он указывает на странную омонимию понятий философии и явлений театра: у обоих есть «представление», «действие», «критика», «явление», здесь — земной глобус, там — театр «Globe». На материале Шекспира — своего рода воплощения театра — Кржижановский утверждает, что творчество оказывается более абстрактным, чем философия:
«…за "явлениями" Канта еще чувствуются аффицирующие их вещи. За аффицированными "явлениями" Шекспира их нет: они оторвались от вещей» (4: 44).
И вместе с тем театр способен излечить от искушения метафизики, привести человека обратно к своей личности:
«…мышление Канта, вложенное в черепные кости Шмидта, в день-два прожжет и износит все нервные пути и извилины Шмидтова мозга. На помощь маломыслию Шмидта приходит театр: он, театр, перечеркивает линией рампы "не" в "не-я", соединяя разлученное "я" с "я"» (4: 47).
Таким образом, театр видится Кржижановскому как своеобразный лекарь гносеологических недугов современности, как путь к единству личности, разобщаемой в новом времени. Противопоставление театра и философии у Кржижановского К. Эмерсон комментирует так: “Theater might be illusionist, but in no sense was it an illusion. On the contrary: whatever philosophy might decree, Shakespeare’s characters were proof of embodiment, appetite, three- and four-dimensional reality. Theater <…> was the site of the real, not an escape from reality” («Театр может быть иллюзионом, но ни в каком смысле не иллюзией. И наоборот: что бы ни заявляла философия, герои Шекспира были доказательством телесности, страсти, трех- и четырехмерной реальности. Театр <…> был на стороне реальности, а не побега от реальности». — Перевод наш, В. С. и Д. Ж.) [Emerson: 584]. Как пишет Кржижановский, очевидно, в обозначенном ключе, «Шекспир — мастер реализма» (4: 323).
Кржижановский, отказавшись от систематического философствования, остается философом-эссеистом, и его подход к театру, как и к Шекспиру, носит характер философской категоризации.
Важнейшей характеристикой шекспировского театра становится категория времени. Так, Кржижановский, говоря о том, что хронологическим модусом драмы как рода литературы (в отличие от эпоса-прошлого и лирики-настоящего) становится будущее, приводит пример из Шекспира:
«Образ Гамлета, показанный в первые годы XVII столетия, взят Шекспиром из первой трети XIX столетия» (4: 82).
Футурология театра для него — способ предсказывания, угадывания будущего.
О специфике драматургии Шекспира Кржижановский также рассуждает в терминах времени (и вообще в понятиях физики): «Время Шекспир чувствовал необычайно остро и болезненно»4.
Кржижановский дает определение произведениям Шекспира:
«…это вполне реальная жизненная масса, движимая с повышенной, специфически театральной скоростью» (4: 176).
Кржижановский выводит жанровое различие из разницы скоростей меж ду «мыслями-фактами» и «фактами-фактами»:
«Когда мысли обгоняют, перевешивают факты, создается трагическая коллизия. Когда же мысль отстает от бега фактов — неизбежно комическое положение» (4: 178).
Так, Ромео слишком спешит и принимает мысль о смерти любимой за факт; слишком спешит и Макбет, стремясь собственноручно воплотить пророчество ведьм. Напротив, в комедиях герои притормаживают и пропускают события, мыслят медленнее зрителя и потому часто смешны. Таким образом, в комедии «сущность ошибки — в непоспевании за фактом, в отставании движения принимающей ракетки от подаваемого факта (или мяча)» (4: 200).
Возвращаясь к этой теме, Кржижановский уточняет:
«Ретардация и акселерация — вот два понятия, живущие на разных половинах шекспировского репертуара. Ретардация (замедление) почти всегда избирает себе комедию, акселерация — трагедию» (4: 290).
Такое рассуждение о комическом через хронологическое определение несет характер новаторства, так как признаком комического ранее считались характеристики другой природы (аристотелевское «безобразное», теория деградации, теория превосходства, противоречия и так далее) [Дземидок].
Кржижановский рассматривает театр Шекспира с позиций антитезы аудиальных и визуальных впечатлений. Противопоставляя греческий «театр слуха», театр-«ухо» итальянской сцене, рассчитанной прежде всего на визуальное восприятие, Кржижановский определяет природу театра Шекспира как ориентированного «промежуточно»:
«Шекспировский театр, работавший как раз на перегоне от старого слухового театра к теперешнему театру глаза, пробовал сочетать обе техники подачи сценического материала. <…> Декламация частично заменяла декорацию» (4: 282).
Таким образом, он ставит шекспировский театр на перепутье между античным и итальянским (современным) типами театра.
Вопрос о природе шекспировского театра для Кржижановского напрямую связан с вопросом авторства. Исследователь возражает теории о том, что настоящим автором пьес Шекспира был Ф. Бэкон: ведь автор идеи об «идолах театра», искажающих познание мира, вряд ли мог идти за истиной «к порождающему призраки и ложь театру» (4: 230). И в целом он не слишком заинтересован в том, чтобы доискиваться до точной личности исторического Шекспира: «Что касается авторства, то я вообще считаю для себя лично лишней тратой времени погружаться в этот в достаточной мере схоластический вопрос. Потому что, как говорил один француз, произведение — всё, автор — ничто»5.
Кржижановский говорит по шекспировскому вопросу следующее:
-
1) Шекспир был человеком театра и писал для театра, а не для читателей; доказательство — малое количество ремарок: «Шекспир <…> не нуждался в ремарках. Он их давал устно как режиссер во время репетиции» (4: 92);
-
2) он много читал, выискивая материал для пьес (4: 231);
-
3) Шекспир находился на перепутье между разными социальными традициями, типами мышления: «Он колебался меж традициями аристократии своего времени, вновь нарождающимся классом торговой буржуазии и зачатками трудовой интеллигенции, к которой принадлежал он сам» (4: 235);
-
4) Он, вероятно, считал себя неудачником, потому что перешел от сонетов и поэм к пьесам, которые считал, в общем, поделками и низким искусством (см. сонет 72).
Важнейший способ работы театра Шекспира со зрителем, по Кржижановскому, — воображение:
«Драматургия Шекспира была всецело рассчитана на воображение его зрителей. Он хотел быть воображаемым . Глаза зрителей создавали декорации. Сменяли их» (4: 295).
В связи с этим, как считает Кржижановский, застройка шекспировского текста декорациями в новом типе театра (как и его упорядочение с ремарками и т. д.) является нарушением принципов его драматургии.
Именно к «воображаемой» природе спектаклей Шекспира Кржижановский относит вопрос о переводе пьес. Он много критикует русские переводы, подразделяя их на «причесывающие» и «взъерошивающие» (4: 296), и заключает о необходимости новых, более точных переводов:
«Нам предстоит еще долгий-долгий путь от воображаемого Шекспира к Шекспиру — мастеру воображения» (4: 300).
В частности, Кржижановский отмечает, что на русский не переведены многие ключевые образы Шекспира:
«…целый ряд его сквозных образов оказался наглухо заколоченным» (4: 162).
Например, образ червя (в пьесах «Сон в летнюю ночь», «Гамлет», «Укрощение строптивой», «Антоний и Клеопатра» и др.); образы стрелы и оленя и др.
Наиболее важным сквозным образом Шекспира Кржижановский называет сон, сновидение, прослеживая реализацию этого образа в пьесах и рассматривая уподобление сна смерти в поздних комедиях и трагедиях, где сон может обернуться смертью, как у Джульетты. Кржижановский уточняет, что в трагедиях сон как синоним смерти особенно значим:
«Причинить смерть — значит убить и сон: на место его придут видения "иного" мира; убитые Дункан и Банко вернутся назад и станут над трупом убитого сна; явь обратится в мучительный сон» (4: 173).
Кржижановский говорит о том, что сновидение у Шекспира значимо как момент перехода между объектом и субъектом, между внутренним и внешним:
«…сновидение есть единственный случай, когда мы свои мысли воспринимаем как внешние факты : во сне снимается противоречие между внешним и внутренним, причем преимущества скорости у внутреннего, идеального ряда не отнимаются» (4: 174).
В работе «Комедиография Шекспира» Кржижановский, вопреки заглавию, пишет далеко не только о том, как построены шекспировские комедии. Он смотрит на комическое в сопоставлении с трагическим, определяя жанры через соотношение друг с другом. Одним из первых, полуметафорических принципов разграничения жанров он обозначает различие голубого и черного:
это цвета ткани, которыми подбивали навес сцены; соответственно, комедии сопутствовал голубой (4: 154).
Кржижановский приходит к тому, что основой драматургии Шекспира является игра на двойственности, но двойственности различной:
«…тема трагедии — двойники ; тема же комедии — двойня , близнечество, физическое или духовное» (4: 193).
При этом цифровой код трагедии, как пишет Кржижановский, — разница, а код комедии — сумма: «Трагедия: 2–1=0. Комедия: 1+1=3» (4: 194). В трагедии, «перечеркивая единицу, перечеркиваешь неделимое», то есть убивая Ромео, убиваешь и Джульетту; в комедии же, напротив, торжествует «плотская, рождающая любовь» (4: 194).
Другая формулировка касается принципов построения сюжета комедии и трагедии:
«В основе трагедии — "трагическая вина героя". В основе комедии — простая ошибка персонажа, рассудочный просчет» (4: 200).
Также Кржижановский формулирует жанровые определения через парадоксальные метафоры:
«…словесная природа комедии омонистична, трагедия синонимична» (4: 212).
Комедия играет смыслами одинаково звучащих слов, например:
«… lover — любовник и lubber — олух. Острота о том, что все любовники глупы…» (4: 214).
Таким образом, Кржижановский все время рассматривает противопоставленные жанры как сопоставленные, ищет основания для их парадоксально совместного определения.
Так, Кржижановский приходит к выводу о том, что многие из комических сцен у Шекспира, прежде всего в самих комедиях, — пародия на трагизм. Автопародии, повторы, насмешки над собственным сценарным или словесным ходом — частый прием в трагедиях. Кржижановский вообще в какой-то момент приходит к выводу, что все его комедии — это перелицованная трагедия:
«…почти все шекспировские комедии, поскольку их темой является разлука и соединение влюбленных, теми или иными ситуациями и сценировкой напоминают переведенные в комический план трагические соотношения единственной, всецело посвященной теме любви трагедии о Джульетте и Ромео» (4: 207–208).
Кржижановский размышляет о природе заголовка у Шекспира: в трагедиях и хрониках это, как правило, имя протагониста или протагонистов, иногда с титулом («Король Лир»); в комедиях же заголовок обычно характеризует сюжетное содержание («Напрасный труд любви», «Комедия ошибок» и др.) (4: 184).
В структуре пьес Шекспира Кржижановский выделяет три основные части: начало, концовку (этой части посвящена его работа «Концовки шекспировских пьес», датируемая примерно 1935 г.) и переломный момент, который он называет «пьесо-раздел»: это момент последней жанровой неопределенности, где можно увидеть «борьбу за благополучный конец» (4: 287), — например, в «Гамлете» до убийства Полония.
Концовки пьес Шекспира, по Кржижановскому, служат своего рода воплощением всей драмы:
«…концовка — в той или иной степени — компенсирует и комического "героя", давая ему возможность нагнать упущенное, допонять то, что он не понимал, и трагического "героя", который (жив он или мертв) дожидается, "сценически присутствует", пока остальная человеческая масса не приблизится к его пониманию, не признает его превосходства» (4: 291–292).
Герои комедии все узнают, умнеют, «догоняют» ход пьесы; герои трагедии достигают некоторой моральной высоты — как, например, наконец перестающие враждовать Монтекки и Капулетти.
Рассматривая художественную природу языка пьес, Кржижановский анализирует соотношение стиха и прозы в драме Шекспира:
«Как правило, в трагедии текстовая основа стихотворна; в комедии — прозаична» (4: 228).
Он приходит к выводу, что поэзия появляется там, где идет накал эмоций:
«Прилив эмоций прячет под рифмами прибоя прозу; с отливом чувства проза обнажается вновь» (4: 229).
Исследуя природу шекспировской комедии, Кржижановский делает ряд классифицирующих наблюдений. Так, используя психологические метафоры, он подразделяет комедии на сангвинические (быстрая смена сцен, быстрое течение действия) и меланхолические (долгая завязка, долгое развитие действия, годы между актами) (4: 196). Исследователь распределяет имена у Шекспира в комедиях на несколько групп: сугубо комедийные, «комическая группа» (Спид, Симпль, Далл) и лирические (Просперо, Виола и пр.) (4: 190–191).
Также Кржижановский исследует хроники Шекспира: объекты авторского интереса, происхождение сюжетов, отбор материала, соотношение таких важных начал, как исторический опыт, личный опыт и воображение (4: 248). Он описывает хроники и изображаемую ими историю через сквозную метафору движущегося леса — то дантовского леса самоубийц, то Бирнемского (так у Кржижановского) леса из «Макбета»:
«Читая хроники, видишь, как деревья геральдического леса старой Англии, схватившись ветвями друг с другом, напрягая наузлия и тычась сучьями в сучья, усиливаются вырвать друг друга из жизни…» (4: 255).
Шекспир становится, действительно, одним из первых авторов, которые, задолго до Скотта, стремятся выразить историю в художественном произведении. Кржижановский формулирует принцип работы с материалом так:
«История, ее факты перемонтированы и сгруппированы наново, по принципу перехода от разновременности к одновременности. <…> События, <…> растянутые на десять лет, он вмещает в получас (притом в получас реального времени)» (4: 265–266).
Кроме того, короли у Шекспира величественно и разумно говорят — не соответственно своему состоянию, но сообразно ситуации:
«Исторически дознано, что Ричард II к концу своей жизни страдал слабоумием, а Генрих VI был подвержен циклическому психозу. Но в конце хроник, носящих их имена, оба короля, в преддверии смерти, за решеткой Тауэра, произносят глубокомысленные, полные философского содержания монологи. Короли малоумны, но ситуация многозначительна — и Шекспир заставляет говорить самое ситуацию» (4: 266).
Решая вопрос о том, какой социальный слой нужен для изображения истории: только ли исторические деятели, аристократы или также и оставшийся безымянным народ, — Шекспир, по Кржижановскому, находит наиболее смелое решение в чередовании, как в «Генрихе IV»:
«Почти все нечетные сцены показаны здесь с высоты трона, почти все четные — из окна винного подвала. Нечеты говорят пятистопным ямбом, тронными речами, текстами посольских грамот и международных договоров, докладами королевских советников и сообщениями гонцов о мире или войне; четы — говорят ухабистой прозой, с примесью божбы и ругательств, застольными тостами» (4: 269).
И все же важнейшими оказываются не народные массы, а монархи:
«Шекспир ощущает историю как творимую сверху» (4: 269).
Кржижановский подразделяет исторических героев Шекспира согласно их «амплуа»: король-злодей (Ричард III, Генрих IV, Генрих VI); временщик; геральдокласт; женщина-волчица (королевы Констанция, Маргарита); хронико-историческое инженю; воин; привратник — «персонаж, у которого хранятся ключи от встреч» (4: 273); толпа. Он разбирает возможные места действия:
«…а) в стенах дворцов, б) в раздвигающих стены полях битв и в) у стен крепостей» (4: 275).
Опираясь на многие исследования (но, как правило, не называя имен исследователей), Кржижановский находит нужным ответить Льву Толстому на шекспировскую критику, именно на материале хроник. Во-первых, те «отвращение, скука и недоумение», на которые жаловался Толстой при чтении Шекспира, могут относиться к материалу драмы (будь то судьба Лира или хроники), а не к мастерству автора. Во-вторых, преувеличения у Шекспира соразмерны друг другу:
«Назначение предметного стекла телескопа — преувеличивать, и притом всё, в противном случае он не придвинет к глазу дальних объектов» (4: 278).
В-третьих, обвинение в неискренности Кржижановский отрицает тем, что, в частности, персонажи хроник «почти все <…> заданы автором себе самому как люди, искусные в неискренности » (4: 278).
Можно проследить определенную динамику в том, как распределяются объекты внимания у Кржижановского: если в 1923 г. он пишет «Философему о театре», то впоследствии его шекспи-роведческие штудии становятся, даже по заглавиям, всё ýже по теме. Приведем выборочно названия работ, в порядке хронологии: 1934 г. — «Комедиография Шекспира»; 1935 — «Концовки шекспировских пьес»; 1936 — «Сэр Джон Фальстаф и Дон Кихот»; 1938 — «Военные мотивы у Шекспира»; 1940 — «Детские персонажи у Шекспира»; 1942 — «Песенки Шекспира».
В какой-то степени рассуждения о Шекспире становятся для Кржижановского, ожидаемо, рассуждениями и о современной ему реальности. Трудно не увидеть наблюдения интеллигента о советской России в следующих фразах:
«Жизнь состоит в том, что настоящее рушится в прошлое, а будущего всё нет и нет» (1936) (4: 281);
«Что такое революция? Если отвечать, оставаясь в пределах значений, то революция — убыстрение фактов. <…> В революциях события набирают скорость, доводя ее почти до быстроты смены театральных явлений» (1934) (4: 236);
«Персонажи контрреволюции, опоздавшие к отходу исторических фактов, всегда смешны. Они смешны, в какую бы большую боль ни обходилась им их комическая ситуация» (1934) (4: 236).
Трудно читать вне советского контекста и такое утверждение о Фальстафе:
«По учению буржуазных государствоведов, <…> есть три власти, якобы независимые друг от друга: законодательная, судебная, административная. Но сэр Джон знает, что есть еще и четвертая власть — та, которая свергает установленную систему властей» (4: 328).
В финале работы 1936 г. о шекспировских хрониках Кржижановский рассуждает о том, что мог бы почерпнуть у Шекспира современный драматург. Он отмечает, что «наша эпоха и время Шекспира у разных полюсов цветового спектра» (4: 283), однако Шекспир мог бы научить советских драматургов «технике масштаба», согласно которой он увеличивал «относительно незначительные события своего острова до предела мировых» (4: 283), а также «приему симметризирова-ния ситуации» и «искусству двигать слово сразу по двум плоскостям — по поверхности и дну» (4: 284). Завершает свою речь Кржижановский уже совсем по-ленински: «…у Шекспира, учившегося у живых и мертвых, у улиц с их диалектами и у книг с их застывшими формами, нужно учиться <…> самому трудному из всех умений: умению учиться» (4: 284). Он сетует, что в советском театре идет не более четверти пьес Шекспира, и забыты как раз хроники, хотя историческая пьеса остается актуальной темой (4: 303).
В финале работы «Воображаемый Шекспир» Кржижановский отмечает, что новые переводчики Шекспира (имеются в виду переводы, сделанные по заказу издательства “Academia”) справляются со своей задачей лучше дореволюционных:
«…с удовлетворением могу засвидетельствовать, что вскоре режиссер, актер, читатель простятся с воображаемым Шекспиром и познакомятся, наконец, с текстами, более или менее близкими к созданиям великого драматурга» (4: 301).
Можно заключить, что взгляд Кржижановского на Шекспира философичен. Прежде всего он противопоставляет философию и творчество, Канта и Шекспира, как опасное гносеологическое искушение — и спасение от этого искушения. Кржижановский описывает природу шекспировского театра, дает ряд блестящих жанровых определений-противопоставлений, из которых наиболее важные основаны на хронологических характеристиках пьес.
Список литературы Шекспир и шекспировский театр в творчестве Сигизмунда Кржижановского
- Азеева И. В. Формирование концепта театра в исканиях русских теоретиков первой половины ХХ века («Философема о театре» Сигизмунда Кржижановского) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2008. № 4. С. 216—219.
- Буровцева Н. Ю. Проза С. Д. Кржижановского: проблемы поэтики: дис. ... канд. филол. наук. М., 1998. 178 с.
- Воробьева Е. И. Жанровое своеобразие творчества С. Д. Кржижановского: дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. 211 с.
- Горошников В. В. Экзистенциальная проблематика прозы Сигизмунда Кржижановского: дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 2005. 178 с.
- Делекторская И. Б. Эстетические воззрения Сигизмунда Кржижановского: от шекспироведения к философии искусства: дис. ... канд. филол. наук. М., 2000. 159 с.
- Дземидок Б. О комическом. М.: Прогресс, 1974. 224 с.
- Кузьмина Е. О. Поэтика фольклорных сюжетов в литературной сказке С. Кржижановского // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2012. № 1 (9). С. 20—27.
- Ливская Е. В. Философско-эстетические искания в прозе С. Д. Кржижановского: дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. 219 с.
- Лунина И. В. Художественный мир новелл С. Д. Кржижановского: человек, пространство, коммуникация: дис. ... канд. филол. наук. Красноярск, 2009. 166 с.
- Моисеева Е. В. Художественный мир прозы С. Кржижановского: дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. 184 с.
- Плотников К. И. К вопросу об историзме С. Д. Кржижановского // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2014. № 10 (95). С. 128—133 [Электронный ресурс]. URL: http://izvestia.vspu.ru/files/publics/95/128-133.pdf (13.02.2023).
- Плотников К. И. С. Д. Кржижановский-шекспировед: к вопросу об освоении драматургии Шекспира в 1930-е годы (методы и подходы) // Знание. Понимание. Умение. 2015. № 2. С. 246—253 [Электронный ресурс]. URL: https://journals.mosgu.ru/zpu/article/view/123 (13.02.2023).
- Трубецкова Е. Г. «Борьба властителей дум с блюстителями дум»: о несостоявшейся публикации произведений С. Д. Кржижановского в период «оттепели» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика. 2016. Т. 16. Вып. 1. С. 76—81[Электронный ресурс]. URL:https://bonjour.sgu.ru/ru/articles/borba-vlastiteley-dum-s-blyustitelyami-dum-o-nesostoyavsheysya-publikacii-proizvedeniy-s-d (13.02.2023). DOI: https://doi.org/10.18500/1817-7115-2016-16-1-76-84
- Эмерсон К. Сигизмунд Кржижановский как драматург и мировая история как фарс // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. № 7 (109). С. 134—143[Электронный ресурс]. URL:https://vestnik.tspu.edu.ru/archive?year=2011&issue=7&article_id=2980&format=html (13.02.2023).
- Ballard A. Быт Encounters Бы: Krzhizhanovsky’s Theater of Fiction // The Slavic and East European Journal. 2012. Vol. 56. No. 4. P. 553—576.
- Emerson C. Krzhizhanovsky as a Reader of Shakespeare and Bernard Shaw //The Slavic and East European Journal. 2012. Vol. 56. No. 4. P. 577—611.
- Leiderman N. L. The intellectual Цorlds of Sigizmund Krzhizhanovsky // The Slavic and East European Journal. 2012. Vol. 56. No. 4. P. 507—535.