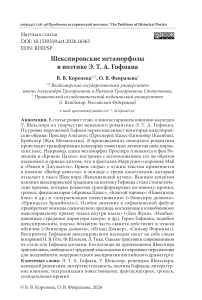Шекспировские метаморфозы в поэтике Э. Т. А. Гофмана
Автор: Королева В.В., Февралева О.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.24, 2026 года.
Бесплатный доступ
В статье развит тезис о многостороннем влиянии наследия У. Шекспира на творчество немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана. На уровне персонажей Гофман переосмысливает некоторые шекспировские образы: Проспер Альпанус (Просперо), Цахес-Циннобер (Калибан), Крейслер (Жак Меланхолик). В произведениях немецкого романтика происходит трансформация некоторых сюжетных элементов шекспировских пьес. Например, сцена метаморфоз Проспера Альпануса и феи Розеншён в «Крошке Цахесе» построена с использованием тех же образов насекомых и приема литоты, что и фантазия Меркуцио о королеве Маб в «Ромео и Джульетте». Прием «игры» с чужим текстом применяется в новелле «Выбор невесты» в эпизоде с тремя шкатулками, который отсылает к пьесе Шекспира «Венецианский купец». Важным аспектом влияния шекспировской традиции на поэтику Гофмана стали стилистические приемы, которые романтик трансформировал по-новому: ирония, гротеск, фантасмагория («Крошка Цахес», «Золотой горшок», «Повелитель блох» и др.) и «театрализация повествования» («Эликсиры дьявола», «Принцесса Брамбилла»). Особое значение в гофмановской фабуле приобретают эпизоды сценического зрелища, восходящие к излюбленному шекспировскому приему «пьеса внутри пьесы» («Дон Жуан», «Необыкновенные страдания директора театра» и др.). Герои Гофмана, подобно шекспировским, подчас бóльшую часть сюжета действуют в чужом обличии («Эликсиры дьявола», «Игнац Деннер», «Синьор Формика»). Восприятие Гофманом шекспировского наследия несет на себе следы воззрений И. В. Гёте, Ф. Шлегеля, Л. Тика. Однако трактовки современников не стали для Гофмана догмами. Его взгляды на произведения Шекспира оригинальны, свободны от традиций классицизма и открывают перспективы для позднейшего, модернистского восприятия английского драматурга.
Э. Т. А. Гофман, У. Шекспир, рецепция Шекспира, немецкий романтизм, интертекстуальность, поэтика Гофмана, литературное влияние, театрализация повествования, фантасмагория, гротеск, созидательная ирония
Короткий адрес: https://sciup.org/147253029
IDR: 147253029 | DOI: 10.15393/j9.art.2026.16363
Текст научной статьи Шекспировские метаморфозы в поэтике Э. Т. А. Гофмана
В числе выдающихся писателей рубежа XVIII–XIX вв., индивидуальный стиль которых формировался под знаком
У. Шекспира, нельзя не назвать Э. Т. А. Гофмана. Писатель, с которым принято связывать закат романтизма, превосходно знал тексты британского драматурга, уже неоднократно переведенные на немецкий язык, и регулярно ссылался на них или прямо цитировал. Важны были для Гофмана и высказывания его современников о шекспировском наследии, но он зачастую склонен был к полемике с ними или к углублению тех или иных воззрений. Аллюзии на такие пьесы как «Гамлет», «Как вам это понравится», «Венецианский купец», «Буря» и др., цитаты из них, упоминания героев — неотъемлемые элементы большинства произведений Гофмана («Золотой горшок», «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», «Житейские воззрения кота Мурра», «Крейслериана», «Выбор невесты» и др.). Рефлексия над шекспировским материалом и одновременно «игра» с ним стали постоянным фоном гоф-мановского творчества. Вне данного стилеобразующего фактора художественный мир позднего романтика не может быть понят вполне, о чем писали такие исследователи, как Ф. Нок [Nock], Р. Робертсон [Robertson], Х. Л. Данн [Dunn], В. Зегебрехт [Segebrecht], В. Хабихт [Habicht] и др.
Увлечение Гофмана шекспировским творчеством в отечественном литературоведении обычно рассматривается как часть общеромантической традиции. Ф. П. Федоров отмечает, что ранние романтики, на которых ориентировался Гофман, особенно ценили комедии Шекспира, «потому что в них все поставлено под знак свободы, под знак веселья, в них в юморе, в игре творится радостный, свободный мир» [Федоров: 99]. Л. А. Мишина указывает на то, что Шекспир стал для Гофмана олицетворением всего театрального искусства: «Шекспир был значим для Гофмана <…> как человек театра, причем величайший человек» [Мишина: 913].
Вклад Ф. П. Федорова [Федоров], А. Ф. Шамрая [Шамрай], Л. А. Мишиной [Мишина], Л. А. Цегловской [Цегловска] и других исследователей в изучение шекспировской традиции в творчестве Гофмана чрезвычайно важен. Однако критики в большей степени сосредоточены на выделении отдельных шекспировских аллюзий и реминисценций в некоторых произведениях Гофмана. Актуальным остается вопрос не только о восприятии Шекспира Гофманом, но и о переосмыслении шекспировских образов, сюжетов и стилистических приемов в художественном мире немецкого романтика.
На наш взгляд, традиции Шекспира нашли преломление в творчестве Гофмана, во-первых, в трансформации элементов сюжета: монолог о королеве Маб («Ромео и Джульетта») перекликается со сценой метаморфоз Проспера Альпануса и феи Розеншён («Крошка Цахес»), которая также построена на приеме литоты; эпизод с сундучками из новеллы Гофмана «Выбор невесты» отсылает к комедии «Венецианский купец». Гофман использует прием «игры» с чужим текстом, обращаясь к шекспировским сюжетным линиям. Во-вторых, происходит переосмысление шекспировских образов: Проспер Альпанус («Крошка Цахес») / Просперо («Буря»), Цахес-Циннобер («Крошка Цахес») / Калибан («Буря»), Основа («Сон в летнюю ночь»). Особенно ценным для Гофмана становится сочетание трагического и комического в образе, что порождает ужасное, гротескное («Крошка Цахес»). И, наконец, обращаясь к творчеству Шекспира, Гофман не только заимствует некоторые стилистические приемы, такие как ирония, гротеск и фантасмагория («Буря»), но и трансформирует их — в результате появляются такие приемы, как «созидательная ирония», «театрализация повествования» (с акцентом на аудиовизуальное и осязательное восприятие).
На первый взгляд, может сложиться мнение, что Гофман использовал наследие Шекспира как кладовую образов и сюжетов, которые искусно обыгрывал, придавая своим творениям дополнительную интертекстуальную глубину. Так, Л. А. Цегловска, исследуя реминисценции в «Житейских воззрениях кота Мурра», пишет о том, что «сравнения с героями произведений Шекспира позволяют Гофману более ярко обрисовать натуры своих персонажей и сюжетные особенности их судеб»: например, «капельмейстер Крейслер становится у немецкого романтика» «гибридом» Гамлета, Жака Меланхолика, шута Оселка и воздушного духа Ариэля. Указания на данных персонажей формируют нравственномировоззренческий комплекс гофмановского альтер-эго [Цегловска: 18–19]. Однако, на наш взгляд, у Гофмана Иоганн Крейслер не просто «сравнивается» с перечисленными шекспировскими персонажами — он отождествляется с ними в сознании романтика, становится обновленной, новоявленной версией Гамлета, Жака, Оселка и Ариэля и, разумеется, их синтезом. Типологическое (или архетипическое) родство гофмановского героя с шекспировскими образами рисует его как чудотворца (таков Ариэль), скептичного исследователя человеческой натуры (таковы Жак и Оселок), наконец, в нем присутствует потенциал судьи и исправителя мира — такова основная миссия Гамлета, чье помешательство — лишь маска. Безумный герой (Гамлет, Дон Кихот или Крейслер) в своем сюжете также служит живым зеркалом всей реальности, сошедшей с праведных путей.
Под непосредственным влиянием шекспировской трагикомедии «Буря» (1611) Гофман, очевидно, находился, создавая повесть «Крошка Цахес» (1819). Во-первых, на это указывает фигура Проспера Альпануса, тезки шекспировского волшебника; во-вторых — сам Цахес-Циннобер, который может быть рассмотрен в качестве новой версии Калибана — онтологической аномалии, средоточия всего безобразного и низменного. Вся сказочная повесть представляет собой историю глупого и невежественного уродца. Благодаря чарам феи он окружен всеобщим обожанием, получает славу, власть, богатство, благосклонность прекрасной девушки. Однако доминирование Цахеса создает лишь хаос. В отличие от Калибана, в финале просто посрамленного, Циннобер гибнет, но сцена его смерти содержит подобие катарсиса; мертвый карлик описан с состраданием, отчасти даже с умилением:
«Маленькие глазки были закрыты, носик бел, уста чуть тронула нежная улыбка…» [Гофман; т. 3: 258].
Фея-покровительница надеется на его возрождение в мире природы:
«Быть может, мне доведется еще увидеть тебя маленьким жучком, шустрой мышкой или проворной белкой, я буду этому рада! Спи с миром!..» [Гофман; т. 3: 259].
Тонкая и опосредованная деталь, связывающая Калибана и Цахеса, — образ матери. Шекспировский дикарь родился от сосланной на необитаемый остров ведьмы Сикораксы. Цахес, на первый взгляд, — сын обычной крестьянки, но «нельзя не обратить внимание на сходство матери уродливого карлика со зловещей торговкой из новеллы "Золотой горшок"» [Февралева: 96], которая оказывается могущественной колдуньей. Автор дает обеим старухам одно имя, нрав у крестьянки Лизы так же сварлив, а речь полна проклятий. В финале она торгует чудесным репчатым луком, подобно тому, как Лиза Рауэрин торговала заколдованными яблоками, которые возвращались к ней, будучи купленными (торговка называла их своими детками). Итак, старуха из «Крошки Цахеса» становится как бы редуцированной «реинкарнацией» ведьмы из более ранней сказки.
В комедиях Шекспира нередко варьируется образ простака, внезапно получающего несоразмерные блага и почести. Таков, например, пьяница Слай («Укрощение строптивой», 1590–1592), которого лорд ради забавы доставляет в свой дворец и с помощью челяди убеждает, что вся эта роскошь принадлежит ему, Слаю. Таков ткач Основа («Сон в летнюю ночь», 1594–1596), в которого под действием зелья влюбляется царица фей Титания. Драматург позднего Ренессанса мог иллюстрировать с помощью подобных ситуаций непредсказуемость и нелогичность прихотей фортуны. Данный сюжетный поворот напоминает то, что произошло с крошкой Цахесом, на некоторое время окруженным всеобщим почитанием и любовью, но в итоге не только развенчанным, но и умерщвленным. В отличие от пассивных Слая и Основы, которые лишь пользуются внезапными благами, Циннобер проявляет высокомерие, алчность и агрессию, в какой-то момент становится страшным, а не комичным, обнаруживая глубокую испорченность своей натуры.
Гофман также переосмысливает в своих произведениях элементы шекспировской поэтики, не являющиеся сюжетообразующими, но яркие и запоминающиеся. Лучший пример — монолог Меркуцио о королеве Маб из трагедии «Ромео и Джульетта», в котором мир фей переплетен с миром насекомых, растений и мелких животных:
«Она в упряжке из мельчайших мошек Катается у спящих по носам.
В ее повозке спицы у колес
Из длинных сделаны паучьих лапок;
Из крыльев травяной кобылки — фартук; Постромки — из тончайшей паутины, А хомуты — из лунного луча…» [Шекспир: 30].
С этим изображением перекликается сцена метаморфоз Проспера Альпануса и феи Розеншён с тою разницей, что Шекспир вводит в чудесную картину самые прозаические создания, а Гофмана привлекает экзотика:
«И тут она распустила свое шелковое платье и взлетела к потолку прекрасной бархатно-черной бабочкой-антиопой. Но тотчас, зажужжав и загудев, взвился за ней следом Проспер Альпанус, приняв вид дородного жука-рогача. В полном изнеможении бабочка опустилась на пол и забегала по комнате маленькой мышкой. Но жук-рогач с фырканьем и мяуканьем устремился за ней серым котом. Мышка снова взвилась вверх блестящим колибри, но <…> жужжа, налетели <…> насекомые, а с ними и невиданные лесные пернатые…» [Гофман; т. 3: 233].
Прием литоты и привлечение «микроскопической» природной образности, восходящие к миру Маб, также широко использованы в позднем сказочном романе Гофмана «Повелитель блох» (1821–1822), где едва заметные насекомые описаны как сознательный и развитой народ, а погибшая принцесса возрождается из пыльцы тюльпана.
Другим примером переосмысления шекспировского текста становится прием «игры» с чужим сюжетом.
Специфический подход Гофмана к творчеству наиболее признанных и почитаемых им литераторов заключался в активном вовлечении элементов их поэтики в собственные произведения, создание тонкого и сложного интертекста. Например, в новелле «Разбойники» (1820) Гофман создает инверсию, антитезу исходного общеизвестного литературного материала — драмы Шиллера «Разбойники» [Королева, 2019: 30–32]. Так, новелла Гофмана реконструирует обстановку шиллеровской драмы с той разницей, что главные герои получают характеристики, противоположные тем, которыми наделил их драматург, ставший демиургом мира братьев Мооров, чьему замыслу они тщетно противятся. В новелле Гофмана «Взаимосвязь вещей» (1820) фигурирует девушка, которую один из персонажей, Людвиг, отождествляет с Миньо-ной из романа Гёте о Вильгельме Мейстере. Начитанный молодой человек опрометчиво переносит на уличную танцовщицу и характер, и жизненные обстоятельства прототипа. Впрочем, история юной испанки оказывается в новелле не менее интригующей, чем история Миньоны. Гофману для того и важно было вести гётевскую аллюзию, чтобы развернуть «от противного» оригинальную историю. Литература, оцененная романтиком как великая и бессмертная, становится для него онтологическим измерением, в котором он беспрепятственно черпает и образы, и мотивы, и целые фабулы. Это следует рассматривать не столько как пародию, сколько как оммаж, выражение почтения.
С шекспировским текстом Гофман работает не менее регулярно и открыто, чем с гётевским или шиллеровским, но с повышенным пиететом, последовательно актуализируя его. Ярчайшим примером подобного опыта является новелла «Выбор невесты» (1819). Она содержит сцену, безусловно, восходящую к пьесе «Венецианский купец» (1596–1598): трем претендентам на руку и сердце героини предоставлены три запертых ларца, и только с одним связано благословение на брак. Подчеркивая связь с «Венецианским купцом», писатель вводит в число персонажей евреев, олицетворяющих власть денег, и пишет, что на лице одного из них «можно было прочитать ответ Шейлока» [Гофман; т. 4, кн. 2: 76] — отказ от совместной трапезы с христианами. Два первых жениха и у Шекспира, и у Гофмана, польстившись на золото и серебро, из которых сделаны сундучки, получают отказ. Но немецкий писатель трансформирует эпизод, снабжая сундучки более двусмысленными надписями, эстетизируя сцену в целом: выигрышный ларец в новелле сделан из слоновой кости, а не из свинца; неудачливые женихи не удаляются с позором, а получают в виде утешительных призов чудесные артефакты.
Хотя комедия «Венецианский купец» не содержит фантастического элемента, Гофман трансформирует сюжет, наполняя свой производный текст сказочными деталями. По всей видимости, новеллист воспринимает шекспировское наследие как некую новую мифологию, с которой органично сочетаются ирреальные детали: чудесное мыслилось Гофманом как неотъемлемая часть шекспировской поэтики.
Шекспир повлиял и на формирование гофмановского стиля, который характеризуется наличием иронии, гротеска и фантасмагории. Обращение к шекспировской иронии — общая тенденция романтиков. По мысли Н. А. Какауридзе, анализ творчества Шекспира «в духе теории романтической иронии» позволил А. Шлегелю увидеть в английском драматурге «художника, который смотрит на свои произведения как бы со стороны, с определенной <…> дистанции» [Ка-кауридзе: 59].
В. В. Бычков пишет: «Многие произведения Гофмана пронизывает легкая ирония, которую он видит и у некоторых из почитаемых им классиков литературы, на одно из первых мест среди которых ставит Шекспира» [Бычков: 105]. Ирония Шекспира в отличие от других писателей не связана с высмеиванием пороков, она выражает несовершенство мира и его противоречия. С помощью иронии драматург подчеркивает сложность человеческой природы, абсурдность жизни и тонкую грань между правдой и обманом. Именно эта особенность привлекала Гофмана, который в своих произведениях также делает акцент на иронии как художественном приеме.
Так, в цикле рассказов «Серапионовы братья» (1819–1821) немецкий романтик вкладывает в уста Лотара идею о важности роли иронии в произведении, так как она помогает соединять фантастику с реальностью. Гофман предлагает универсальное средство от прозы жизни — иронию, которая способна увести человека от обыденных проблем. Об этом спорят в романе «Эликсиры дьявола» (1815) Медардус и Белькампо. Потешный чудак Белькампо утверждает, что ирония — это защита человека, и артиста в частности, от жестокой действительности:
«Художник прически без юмора — сущее ничтожество, несчастный тупица, у которого в кармане собственное благополучие, а он киснет в унынии, не пользуясь им» [Гофман; т. 2: 214].
Гофмана волнует одна из концептуальных проблем изображения и осмысления мира посредством юмора: где пролегает грань между « созидательной иронией» [Королева, 2021: 440], способной придать произведению бóльшую глубину и яркость, подчеркнуть его светлое начало, и грубым, подчас злорадным и кощунственным зубоскальством. Об этом он размышляет в очерке «Необыкновенные страдания…» (1817–1819), где старший из героев развивает мысль об иронии в связи с определением «истинно комического», которое он отделяет от фарса, вызывающего рефлекторный смех у толпы — автоматическую реакцию на безобразные ужимки актера.
Понятия юмора, иронии, комизма у Гофмана в качестве эстетических категорий перерастают самих себя и выходят в пространство осмысления реальности. Едва уловим тот момент, когда режиссеры-мыслители из очерка Гофмана на некоторое время отвлекаются от вопросов театрального искусства и обращаются к психологии и философии, пытаясь доискаться до тайны взаимоотношений индивида и окружающей его действительности. Ранее Гёте указывал на то, что эта тема столкновения личности с миром пронизывает вселенную Шекспира. Но автор «Вильгельма Мейстера» видел главную репрезентацию героя в его личной воле, типовой конфликт — в расхождении частной воли с планом общего (социального или природного) бытия, а катарсис, вновь обретенную гармонию — в «великом воссоединении долга и воли в характере отдельного человека» [Гёте: 312]. Типичный же герой Гофмана — не трагический борец, а мечтатель, дрейфующий в волнах обстоятельств. Романтика волнует фундаментальное несовпадение внутреннего богатства человека, его личных ценностей и запросов с далеким от совершенства объективным миром:
«Чувство несоответствия между внутренним духом и его внешним, земным окружением порождает болезненную раздражительность, которая выливается в горькую, издевательскую иронию, — говорит Коричневый. — Судорожную щекотку и боль испытывает при прикосновении израненный дух, и смех — это лишь крик боли, тоски по отчизне, которая живет в душе. Такие характеры — шут в "Лире", Жак в "Как вам это понравится", но выше всех в их ряду, пожалуй, ни с кем не сравнимый Гамлет» [Гофман; т. 1: 417–418].
Гофман словно вступает в полемику с Ф. Шлегелем, для которого Шекспир, по-видимому, был только гениальным мастером художественного эффекта, будоражащего чувства, тревожащего мысль, но не содержащего ясного сообщения о сущности человека («Не много я дам за то познание людей, которое можно почерпнуть из Шекспира» [Шлегель: 197]). Поздний романтик именно на шекспировском материале основывает свою концепцию конфликта человеческих устремлений к совершенству с ущербной земной реальностью, порождающей в неудовлетворенной душе и томление (Sehen-sucht), и иронию:
«Кто может отрицать иронию, которая заложена в человеческой природе <…> и при глубочайшей серьезности светится шуткой, остроумием, лукавством. <…> Судороги боли, пронзительные вопли отчаяния выливаются в смех того изумительного веселья, которое болью и отчаянием только и рождено. Полное понимание этого странного устройства человеческой природы, наверно, и есть то, что мы называем юмором, непроизвольно определяя для себя так глубокую внутреннюю сущность юмористического, которое, на мой взгляд, есть то же самое, что истинно комическое» [Гофман; т. 1: 414].
Ирония, исключающая бездумный оптимизм, самодовольство и самолюбование, одновременно не дает впасть в отчаяние человеку, «чувствующему всем существом разлаженность, разбалансированность бытия» [Королева, Фев-ралева: 82]. Олицетворением такого мировоззрения служил
Гофману и его героям образ шекспировского Гамлета. Директор в Коричневом ссылается на характеристику принца из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795–1796), но тут же дополняет ее своим суждением:
«"Это душа слишком слабая, чтобы выдержать бремя, возложенное на нее судьбой", — сказано где-то, а я добавлю, что колеблющимся и нерешительным делает Гамлета прежде всего глубокое чувство упомянутого несоответствия, которого не поправит никакой поступок и которое кончается только с собственной земной гибелью. Но такого Гамлета может сыграть лишь актер, одухотворенный глубочайшим юмором» [Гофман; т. 1: 418].
Юмор, тождественный истинно-комическому и противоположный грубому цинизму, по теории Гофмана, органически связан с трагическим мироощущением, но разбавляет его, частично нейтрализует. Не столько гётевское «воссоединение долга и воли», сколько юмор, указывающий на нелепое в страшном, позволяет индивиду духовно противостоять враждебной реальности. И пьесы Шекспира в глазах гофма-новских режиссеров точно воссоздают это столкновение:
«Да и все, пожалуй, его герои носят печать той иронии, которая часто в напряженнейшие моменты выражает себя в остроумных фантазиях, а с другой стороны, его комические характеры строятся на трагической основе» [Гофман; т. 1: 414], — рассуждает не без пафоса Коричневый. Директор в сером соглашается:
«Я назвал Шекспира, и теперь мне совершенно ясно, что только юмор <…> и делает живыми его персонажи» [Гофман; т. 1: 414].
Очерк Гофмана «Необыкновенные страдания…» содержит ряд громких панегириков Шекспиру, причем собеседники в конце концов начинают видеть в нем не только драматурга — организатора сценических сюжетов, но и художника, наиболее верно отобразившего все грани человечности:
«Ни один писатель не познал всю глубину человеческой природы и не сумел ее передать так, как Шекспир, поэтому его характеры принадлежат всему миру и будут жить, пока существуют на свете люди» [Гофман; т. 1: 414].
Гофман наследует у Шекспира и такой стилистический прием, как фантасмагория. Два автора могут быть по праву поставлены рядом как два мастера сочетания реальности и фантастики. На этот аспект таланта английского драматурга указал Л. Тик, который в своей статье «Трактовка чудесного у Шекспира» сосредоточен на четырех пьесах, где чудесные явления проходят через все действие и оказываются сюжетообразующим фактором: «Сон в летнюю ночь», «Буря», «Гамлет» и «Макбет». Но фантасмагория возникает в произведениях английского драматурга гораздо чаще, порой неожиданно, но всегда очень ярко. Например, кульминация комедии «Виндзорские насмешницы» происходит в ночном лесу, а герои — в соответствии со своими целями — наряжаются призраками, феями, эльфами и другими мифическими существами. Стоит снова вспомнить и спонтанный монолог Меркуцио о королеве Маб — настоящий разгул фантазии, на первый взгляд самодостаточной, созданной лишь для эффекта. Но за внешней развлекательностью балагурства героя кроется мысль о том, что в мире снов живет истинная сущность каждого человека — до поры неосознанная, она в конце концов проявит себя и станет эквивалентна судьбе. По мысли Л. Тика, автор «Бури» и «Сна в летнюю ночь» посредством сказочных элементов обращался к народному духу и одновременно облагораживал и наполнял глубокими смыслами хаотичные фольклорные образы: «…при встрече с народной фантазией он [Шекспир] раскрывал в ней богатство и совершенство чувств» [Тик: 232]. Гофман, в свою очередь, использует избыточно богатую сказочную образность, создавая планы глубинной реальности: например, мир магов и фей («Крошка Цахес»), противопоставленный плоско регламентированному «просвещенному» княжеству, или Атлантиду («Золотой горшок») — антипод современной ему бюрократизированной Германии.
Гофман гораздо регулярнее прибегает к фантасмагории, чем Шекспир; можно сказать, что она для него — излюбленный прием. В новелле «Принцесса Брамбилла» (1820) Гофман пишет:
«Должен тебе сказать, благосклонный читатель, что мне <…> уже не раз удавалось уловить и облечь в чеканную форму сказочные образы <…> каждый, кто способен видеть подобные образы, действительно узревал их в жизни и потому верил в их существование. Вот откуда у меня берется смелость <…> пригласить самых серьезных людей присоединиться к их причудливо-пестрому обществу. Но мне думается, любезный читатель, ты не примешь эту смелость за дерзость и сочтешь вполне простительным с моей стороны стремление выманить тебя из узкого круга повседневных будней и совсем особым образом позабавить…» [Гофман; т. 3: 291].
Глубинное содержание самых фееричных сказок Гофмана: «Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Щелкунчик», «Принцесса Брамбилла», «Повелитель блох» — разрыв цивилизации и природы, душевный раскол и тотальная неудовлетворенность человека, стандартизация общественной жизни, нравственное содержание искусства и науки и т. д. На фоне сказочного или мистического антуража Гофман разворачивает вполне реалистичные сюжеты: например, героиня «Выбора невесты», вопреки читательским ожиданиям, не выходит замуж за художника, открывшего правильный ларец, а увлекается светским франтом, делающим юридическую карьеру. Впрочем, в трагическую тональность повествование не уходит. Рассказчик завершает историю отстраненно-иронически.
Важным элементом иронии и фантасмагории у Шекспира и Гофмана становится гротеск. Нельзя сказать, что Шекспир предпочитает его прочим изобразительно-выразительным приемам, но владеет он им в совершенстве и прибегает к нему, если нужно подчеркнуть абсурдность, несообразность ситуации. Примерами комического гротеска в его творчестве служат заколдованный ткач Основа с ослиной головой, в которого влюблена царица фей; гротескна ситуация неотесанного Слая, попавшего в изысканную обстановку дворца; пугающе гротескны ведьмы из трагедии «Макбет» — в целом они похожи на женщин, но у них растут бороды.
Шекспир как изощренный мастер театрального искусства повлиял на авторский стиль и структуру повествования Гофмана в некоторых произведениях. Английский драматург любил вводить в свои пьесы элементы другого театрального представления. Например, драма «Мышеловка» внутри трагедии «Гамлет». Или комедия «Сон в летнюю ночь», которая завершается представлением, устроенным афинскими ремесленниками для герцога Тесея. Фокус эпизода заключается в том, что трагический сюжет актеры-профаны разыгрывают, всячески успокаивая зрителей, повторяя, что на сцене все происходит не по-настоящему. Комедия «Укрощение строптивой» полностью представляет собой пьесу, которую наемные актеры разыгрывают во дворце некоего вельможи. Здесь вставной сюжет в разы крупнее собственной рамы и даже ломает ее: в финале комедии насмешник-лорд и подобранный им пьяница Слай уже не появляются. Кроме того, Шекспир часто вводит эпизоды маскарада, в которых героев трудно узнать, что наполняет действие атмосферой тотальной игры, мистификации. Примеры этого находим в комедиях «Много шума из ничего», «Бесплодные усилия любви».
Гофман в своем творчестве переосмысливает шекспировскую театральность. По словам Л. А. Мишиной, можно говорить о новом стилистическом приеме у немецкого романтика: «театрализации повествования» [Мишина: 911]. Гофман выстраивает некоторые эпизоды в своей прозе, как сцены из театра. Особенно ярко это проявляется в романе «Эликсиры дьявола», в котором соединяются беллетристика, драма, звукомузыкальный строй и сценография. Например, история ирландца Эвсона в рассказе лейб-медика представляет собой «спектакль в спектакле» — это фантасмагорическое действо, «спектакль», который он увидел ранее, длится, не прерываясь, уже двадцать два года. По словам Л. А. Мишиной, «в произведениях Гофмана за фасадом, за видимым и ощущаемым пространством и временем, обнаруживается иное пространство и время» [Мишина: 912]. Театрализацией повествования наполнена также новелла Гофмана «Принцесса Брамбилла», где герой Джильо во время карнавала меняет свои маски, имена и роли. Поэтому многие эпизоды строятся как сцены из одного спектакля — поиски Джильо принцессы Брамбиллы. Например, маленькая сцена поединка Джильо со своим двойником, которого он повстречал, гуляя по Корсо:
«…Джильо вообразил себя ассирийским принцем Корнельо Кьяппери <…>. Сильней и сильней ударял он по струнам гитары, причудливей <…> становились прыжки и движения его бешеного танца. Но его двойник стоял напротив, прыгая, кривляясь <…> и размахивая в воздухе своим широким деревянным мечом… Брамбилла исчезла! <…> "Но я заиграю его, затанцую насмерть, только тогда я стану самим собою и принцесса будет моей!" <…> Джильо, перекувырнувшись, тяжело грянулся о землю» [Гофман; т. 3: 323].
Гофман подробно описывает театральные действа также в новеллах «Дон Жуан», «Необыкновенные страдания директора театра», но у него вставной спектакль более самоценен и служит (особенно в ранних текстах) для развития темы превосходства искусства над обыденной жизнью.
Довольно часто в произведениях Шекспира встречается мотив переодевания и подмены личности, когда персонаж выдает себя за другого человека. Примерами могут служить мнимый отец Люченцио в «Укрощении строптивой», граф Кент в трагедии «Король Лир», многочисленные девушки, выдающие себя за юношей: Порция («Венецианский купец»), Юлия («Два веронца»), Виола («Двенадцатая ночь»), Розалинда («Как вам это понравится»). У Гофмана на этом приеме строится вся новелла «Принцесса Брамбилла»; за другого человека выдают себя также герои романа «Эликсиры дьявола», новелл «Синьор Формика», «Игнац Деннер», «Повелитель блох» и др., что вынуждает их играть чужие роли.
В отличие от шекспировских сюжетов, где переодетый герой просто играет роль на публике, герой Гофмана нередко попадает под влияние своей вымышленной личности, начинает терять себя, либо же его второе «я», органически связанное с первым, начиняет вытеснять его. В усложненном мире немецкого романтика у героя может быть и больше двух личностей (Медардус, Джильо Фава).
Таким образом, значение У. Шекспира для формирования гофмановской поэтики трудно переоценить. Редкое его произведение обходится без шекспировских аллюзий и цитат. В свою очередь, Гофман стал одним из тех писателей в немецкой литературе начала ХIХ в., кто создал Шекспиру репутацию величайшего поэта и драматурга, несравненного знатока человеческой натуры.
Следует отметить, что шекспировское влияние на позднего романтика было комплексным и многоуровневым и нашло отражение в переосмыслении шекспировских сюжетных линий: мир королевы Маб («Ромео и Джульетта») и метаморфозы Проспера Альпануса и феи Розеншён («Крошка Цахес»), а также отчасти история принцессы Гамахеи («Повелитель блох») строятся на приеме литоты; в эпизоде с сундучками (комедия «Венецианский купец» / новелла «Выбор невесты») Гофман использует прием игры с чужим текстом. Шекспировские традиции прослеживаются в трансформации образов английского драматурга: в частности, это Проспер Альпанус («Крошка Цахес») / Просперо («Буря»), Цахес-Циннобер («Крошка Цахес») / Калибан («Буря»), Альбертина («Выбор невесты») / Порция («Венецианский купец»). И, наконец, под влиянием Шекспира формируется неповторимый гофмановский стиль, который характеризуется такими приемами, как гротеск, фантасмагория, «созидательная ирония», «театрализация повествования».