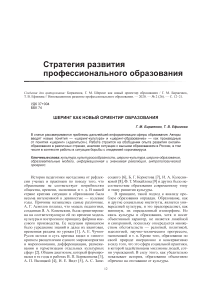Шеринг как новый ориентир образования
Автор: Бирженюк Григорий Михайлович, Ефимова Татьяна Викторовна
Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo
Рубрика: Стратегия развития профессионального образования
Статья в выпуске: 2 (26), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы дальнейшей информатизации сферы образования. Авторы вводят новые понятия - «шеринг-культура» и «шеринг-образование» - как производные от понятия «шеринг» («делиться»). Работа строится на обобщении опыта развития онлайн-образования в различных странах, анализе ситуации с высшим образованием в России, в том числе в контексте работы в ситуации борьбы с эпидемией коронавируса
Культура, культуросообразность, шеринг-культура, шеринг-образование, образовательные модели, информационная и знаниевая революция, антропологический прогресс
Короткий адрес: https://sciup.org/142228683
IDR: 142228683 | УДК: 37+004
Текст научной статьи Шеринг как новый ориентир образования
образовательные модели, информационная прогресс.
История педагогики неотделима от рефлексии ученых и практиков по поводу того, что образование не соответствует потребностям общества, времени, экономики и т. д. В нашей стране критика ситуации в образовании была весьма интенсивной в девяностые — нулевые годы. Причины назывались самые различные. А. Г. Асмолов полагал, что модель педагогики, созданная Я. А. Коменским, была ориентирована на соответствующую ей по времени модель культуры и построена по принципу фабрики массового производства. Ее ведущим принципом было усреднение знаний и далее их квантовая, временная раздача по урокам [1]. А. Е. Чучин-Русов истоки и суть кризиса видел в «многократном расщеплении единого мировосприятия и миропонимания, дифференциации, размежевании и герметизации отдельных культурных сфер» [2]. Общим диагнозом, который формировался в те годы в работах В. П. Борисенкова [3], А. П. Валицкой [4], И. Е. Видт [5], А. С. Запе- и знаниевая революция, антропологический соцкого [6], Б. Г. Корнетова [7], И. А. Колесниковой [8], Ф. Т. Михайлова [9] и других было несоответствие образования современному типу и этапу развития культуры.
В принципе, такой подход к анализу проблем образования оправдан. Образование, как и другие социальные институты, является универсалией культуры, и это предопределяет, как минимум, их определенный изоморфизм. Но связь культуры и образования, хотя и носит объективный характер, не является линейной и синхронной, поскольку опосредуется множеством обстоятельств — религией, политикой, идеологией, научно-техническим прогрессом, экономикой и т. п. Кроме того, образование по своей природе инерционно и консервативно в силу того, что это сфера социальной практики, в которой задействованы миллионы людей, сотни учреждений. В силу этого, как убедительно показывает история, образование объективно обречено на отставание от культуры.
Тем не менее, вектор поисков оптимизации образования исторически всегда был устремлен в сторону приведения образования в соответствие с актуальной культурой. В качестве наиболее ярких примеров можно назвать идею культуросообразности Я. А. Коменского (1597– 1670 гг.) и И. Г. Песталоцци (1746–1827 гг.), педагогическую антропологию К. Д. Ушинского (1823–1870 гг.); примерно в этом же ключе размышлял о проблемах русской школы В. В. Розанов (1856–1919 гг.), который остро переживал противоречие между предназначением воспитания формировать культуру в виде «нарастания в человеке чувств уважения, любви к чему-нибудь» и отсутствием этого стремления у государства [10, с. 37].
В 60-х годах прошлого века начался своеобразный «культурологический поворот» в образовании, связанный с именами В. В. Кра-евского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, полагавших, что содержанием образования должна стать, наряду с наукой, педагогически адаптированная культура [11]. Следом начались интересные и во многом плодотворные научно-практические проекты и разработки, направленные на отказ от репродуктивной парадигмы и переход к развивающему обучению, личностно ориентированной модели образования, педагогике сотрудничества, школе диалога культур. Если посмотреть с высоты сегодняшнего дня на историю педагогических новаций, которые предлагали и реализовывали Ш. А. Амонашвили, С. А. Гильманов, В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик, В. А. Сластенин, М. М. Поташник, В. Ф. Шаталов, М. Н. Щетинин и др., то все они в той или иной мере были направлены на разрыв с традиционной педагогикой и поиск модели образования, адекватной актуальной культуре.
Однако искомого соответствия образования и культуры пока не наблюдается. Этот факт лежал в основе размышлений, составивших содержание нашей предыдущей статьи [12].
Нужно особо подчеркнуть, что указанные типы культуры и порождаемые ими образовательные модели с позиций сегодняшнего дня видятся завершенными и целостными. В реальной жизни эти типы и модели вызревали в борьбе с предыдущими моделями, проходили этапы своего становления, развития, процветания, стагнации, угасания под натиском нарождающихся моделей. Как пишет И. Е. Видт, «процедура смены образовательных моделей состоит в том, что три компонента педагогической культуры (традиционный, актуальный и инновационный) изоморфно эволюционируют в логике смены своего статуса в культуре. […] „Чистые“ типы образования в соответствующей им культуре занимали статус актуального, они явились результатом сложения разнонаправленных векторов (традиционного и потенциального), вобрав в себя наиболее эффективные идеи и решения. Традиционный компонент, отражающий реликтовый компонент культуры, и инновационный, отражающий потенциальный компонент культуры, на каждом этапе культурогенеза имеют различное наполнение, но обязательно адекватны культурным реалиям, соответственно, прошлой и будущей культуры» [6, с. 98].
Как представляется, эта гипотеза обладает значительным эвристическим потенциалом и объяснительной силой, чтобы, оттолкнувшись от нее, мы могли продолжить наш дискурс. Размышляя в этой пунктирно обозначенной концептуальной рамке, попробуем посмотреть на современную ситуацию в культуре и образовании.
Как представляется, мы являемся свидетелями и участниками очень мощного процесса формирования того, что можно в первом приближении назвать «шеринг-культурой». Такого слова в энциклопедиях и поисковиках в интернете нет. Но по запросу «шеринг-экономика» появляются сотни ссылок. «Шеринг» — в приблизительным переводе — «совместное использование». Но в реальности шеринг — явление более широкое. Это пользование без владения, использование по мере надобности и т. п. Понятие «шеринг-экономика» (sharing-economy), т. е. «экономика совместного использования» (иногда термин переводят как «разделяющая экономика», «долевая экономика», «экономика сотрудничества и участия») появилось примерно в 2000 году.
Исторически шеринг нельзя отнести к абсолютно новым явлениям. Традиционная библиотека — это бук-шеринг. Есть библиотечный фонд, и каждый читатель берет из него и возвращает книги, которые затем берет другой читатель. Когда-то в СССР в городах были пункты проката, которые исчезли в годы перестройки. Там можно было взять напрокат музыкальные инструменты, посуду, детские весы, еще многие полезные в быту вещи. Но в целом система проката охватывала относительно небольшую по размерам аудиторию пользователей.
С развитием сети Интернет возникло явление, которое можно назвать torrent sharing — обмен между пользователями Сети фильмами, музыкой, художественной, научной и другой литературой в виде электронных текстов. Далее на авансцену вышел uber sharing. Возникли сервисы, которые позволили огромным массам людей во всем мире налаживать совместное пользование транспортом (kar-sharing, ride-sharing), местами отдыха (timeshare), квартирами и т. д. Мир на наших глазах превращается в гигантский, всеобъемлющий, весьма удобный и привлекательный пункт проката, где идея доступа оказалась привлекательнее идеи и факта владения.
Шеринг-экономика растет экспоненциально. В 2014 году ее объем оценивался в 14 млрд долларов, к 2025 году предполагается рост до 335 млрд долларов.
С помощью сервиса Airbnb миллионы людей арендуют квартиры, дома, виллы в любом населенном месте мира. На сегодня рыночная капитализация Airbnb составляет 31 млрд долларов, сервиса аренды такси Uber — 68 млрд долларов. Существует значительное число сервисов, которые позволяют коммуницировать между собой водителей и попутчиков. Это, например, Lyft — шеринг поездок в Америке, Ola — аналогичный сервис в Индии, транспортный сервис Grab в Юго-Восточной Азии и китайский Didi Chuxing.
Понятно, что включены в эти и другие формы шеринга не все. Старшее поколение сформировалось в условиях раздаточной экономики СССР, в обществе модерна, несущем в себе ряд черт традиционного общества, где все было дефицитом. Отсюда у этой категории доминирует желание прежде всего владеть. Люди в СССР стремились правдами и неправдами приобрести книги, другие предметы, даже те, которые нужны были практически один раз. Например, если человеку нужно было повесить шведскую стенку, он покупал (было такое слово «достал») перфоратор, делал четыре дырки в стене. Потом годами этот перфоратор лежал на антресолях, но у человека было сладкое чувство обладания перфоратором. В итоге дом заполнялся массой вещей, которые были куплены, один раз (а то и ни разу) использованы и затем лежали без дела, но было ощущение владения и определенного преимущества перед теми, кто такого инструмента не имел. Это поколение относится к шерингу в лучшем случае настороженно и в целом предпочитает традиционные формы потребительского поведения. Другая мировоззренческая черта, характерная для старшего поколения: оно получало образование в традиционных формах (урок, лекция, семинар и т. д.) и на всю жизнь, понимая, что вернуться в аудиторию уже не придется и нужно усваивать материал как можно прочнее.
Молодежь, выражаясь метафорично, предпочитает приобретать не перфоратор, а отверстия в стене. Она демонстрирует высокую активность в приобщении к благам шеринг-экономики, где идея доступа правит бал. В 1976 году Эрих Фромм издал ставшую знаменитой книгу, которая называлась «Иметь или быть?» (Haben oder Sein) [13]. Книга была написана под воздействием явления, которое именовалось «общество потребления», сущностной чертой его был вещизм — центрация на вещной стороне бытия, проявляющаяся в безудержном потреблении вещей, продуктов, природы и т. д.
Спрашивая «иметь или быть?», Фромм, разумеется, имел в виду более серьезный концептуальный вопрос: владеть чем-то (дипломом, домом, машиной) или быть кем-то, воплощать что-то (мастерство, компетенции, духовные качества). Когда книга Фромма вышла в свет, еще были свежи воспоминания о студенческих волнениях во Франции 1968 года и идеи, которые питали это движение. Это был бунт нового поколения, попытка прорыва к свободе, причем как к свободе мысли, так и к свободе от ценностей буржуазного общества, которые во многом воплощались в деньгах, машинах, вещах. Разумеется, тогда молодежь ответила: «Быть».
Это было хорошо в плане зарождения новой идеологии, новой системы ценностей, но в итоге оказалось, что, вообще говоря, потребности никуда не деваются, очень много чего хочется, очень много чего нужно.
И вот в конце прошлого века возникает новая концепция: «не иметь, но пользоваться». Стало ясно, что иметь всегда сопряжено с целым рядом обременений. За многие вещи нужно платить налоги, вещи занимают место, за ними нужно ухаживать, заботиться о сохранности и т. д. Владение автомобилем связано с большими расходами на налоги, парковку, ремонт, страховку и пр. Владение велосипедом сопряжено с необходимостью его где-то хранить, мыть, ремонтировать, смазывать. Вместо всего этого потребителю предлагают прокат. Причем сама процедура аренды и возврата транспортного средства предельно облегчается за счет платформенных технологий, где используется система удаленных платежей, поиска транспортного средства с помощью системы GPS. Все это управляется со смартфона с помощью мобильного приложения.
Шеринг развивается очень бурно, охватывая все новые области. Можно с помощью платформенных технологий снять и сдать квартиру в любом конце света, найти попутчика в дорогу, компаньона для совместного проведения отпуска или организации путешествия в экзотическую страну и т. д. Все это экономит место, время, деньги и пр. Например, сегодня в Москве очень большое количество людей свою квартиру сдают, а сами живут на съемной квартире, которая ближе к месту работы. Потому что тратить три-четыре часа на дорогу в один конец очень накладно.
Далее шеринг вышел на следующую стадию развития — social sharing. Обмен на технологическом уровне дополнился обменом социальными статусами. Оказалось, что можно взять в аренду статус и комфорт. Не нужно тратить годы и десятилетия на то, чтобы заработать на машину, дорогую квартиру, дом. Можно отныне одним нажатием кнопки в смартфоне заказать машину, снять престижную квартиру. Владение всем этим постепенно перестает быть жизненной целью, поскольку появился доступ к самым разным благам.
Следующий этап шеринга — сonscious sharing — пока только оформляется в конкретные формы. Суть его определяется тем, что размытие социальных статусов и ценностных ориентиров влечет за собой серьезные сдвиги в когнитивной сфере — выбор делается в пользу такой модели потребления, где максимально исключаются посредники [14]. Иными словами, выбирается модель B2C вместо C2C.
[B2C (Business-to-Consumer, «Бизнес для потребителя») — термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между частными лицами, так называемым конечным потребителем (consumer); также форма электронной торговли, цель которой — прямые продажи для потребителя (конечного потребителя, физического лица). Consumer-to-Consumer (C2C «Потребитель для потребителя») — термин, обозначающий схему электронной торговли конечного потребителя (consumer) с конечным потребителем, при которой покупатель и продавец не являются предпринимателями в юридическом смысле этого слова.]
Но шеринг, как показывают наблюдения, активно вторгается в сферу человеческих отношений. В частности, сегодня определенная часть молодежи считает, что вступать в брак, заводить семью довольно накладно, а проще реализовать некоторые «шеринговые» варианты. В той или иной мере «гражданский брак» — это тоже вариант шеринга. По сути, так называемый «гостевой брак» — тоже вариант шеринга. Классический любовный треугольник также строится по шеринговой схеме — один угол в нем всегда общего пользования. Кошек любят многие, но вместо того, чтобы заводить кота, ухаживать за ним, кормить, убирать, лечить, можно сходить в специализированное кошачье кафе, где кошек можно гладить, ласкать, а затем уйти.
Шеринг в сфере труда имеет различные формы. Это, например, заинтересованность работодателя в том, чтобы иметь четырехчасовой рабочий день. Причина простая — четыре часа работник работает хорошо, а следующие четыре часа он уже работает существенно хуже. Кроме того, работодателю выгодно использовать человека частично, потому что у него есть разные задачи, и под задачи лучше использовать разных людей.
Но во многих случаях шеринг выгоден и работнику. Прежде всего, потому что это лучше сопрягается с другими делами — уходом за детьми, за животными, с учебой и т. п. В ряде случаев шеринг способствует слому традиционного жизненного цикла. На протяжении порядка двух или более столетий этот цикл представлял собой смену следующих друг за другом в строгой последовательности ведущих видов жизнедеятельности: учеба — работа — пенсия. Но во время учебы у человека много потребностей, а денег, как правило, нет. Далее, в период работы у него есть деньги, но у него нет времени. А потом, когда наступает возраст пенсии, у него много времени и потребностей, но денег опять нет. Поэтому сегодня люди склонны использовать более гибкие формы занятости.
Множество возникших в последние годы и охвативших значительное количество работников форм нетрадиционной занятости — аут-стаффинг, аутплейсмент, заемный труд, временная занятость, дистанционная занятость, смартстаффинг, неполная занятость, самозанятость, временная, дистанционная занятость, фриланс и др. — это не что иное, как шеринг в трудовой сфере. Еще в 1980 году Э. Тоф-лер в книге «Третья волна» предсказывал, что в новой экономике будут доминировать такие формы организации труда, как «электронные кооперации», религиозные и семейные производственные команды, бесприбыльные рабочие сообщества и т. п. При этом значительное количество работников будут работать на дому [15]. Шеринг сегодня состоит в том, что работодатель старается использовать работника частично, т. е. ситуативно, под конкретную задачу, под заказ, который нужно выполнить в срок, и т. п.
Эти формы во многих отношениях совпадают с интересами молодежи, которая хотела бы не быть занята по 6–8 и более часов в вузе, а получать образование в удобных ей формах и ситуациях обучения. Шеринг-образование в этом плане оказывается весьма кстати.
На протяжении последних двадцати лет шеринг интенсивно осваивает сферу образования. Предшественником его было дистанционное обучение. Создатель данной технологии (и формы) Калеб Филипс в 1728 году начал обучение студентов стенографии по переписке. Дистанционное обучение расширило возможности обучения женщин в то время, когда им был закрыт доступ в высшие учебные заведения. Анна Тикнор создала в 1873 году общество, которое назвала своим именем (Ticknor’s Society); его цель состояла в обучении женщин по почте. Идея дистанционного обучения получила популярность, и ее довольно быстро институализировали. В 1856 году в Берлине был учрежден институт заочного образования, основатели которого — Ч. Тусен и Г. Ланченштейдт — вели обучение на основе рассылки студентам учебных материалов и контрольных заданий. Учебные курсы XSeries от edEx пользуются до сих пор высоким спросом в разных странах.
Дистанционное обучение как способ увеличения контингента оценили и университеты. В 1874 году программу обучения по почте ввел Университет штата Иллинойс (Illinois State University), в 1892 году — Чикагский университет, в 1911 — Квинслендский университет (University of Queensland) в Брисбене (Австралия).
Технический прогресс оказал значительное влияние на развитие дистанционного обучения. В качестве средства коммуникации между университетом и обучаемыми начало использоваться радио. Пионером в этом направлении в 20-е годы прошлого века выступил Государственный университет Пенсильвании. Вслед за ним в 1925 году Государственный университет Айовы открыл пятилетнюю платную программу радиокурсов. С 1950-х годов университеты США и Европы начали активно предлагать телекурсы студентам [16].
Шеринг в современном образовании начался с появления многочисленных сайтов по поиску репетиторов для школьников. Далее начался бурный рост предложений на рынке онлайн-об-разования. Гибридное обучение, совмещающее онлайн- и офлайн-формы, внедрила Udacity.
Одновременно появились (и их число постоянно умножается) ресурсы, на которых можно найти необходимую информацию: Wikipedia, YouTube, Udacity, Twitter. Все больше открывается сайтов, которые предоставляют различ- ные дистанционные обучающие курсы и программы. Например, Coursera.org. Trade School Coop — это площадка обмена знаниями по бартеру, где можно бесплатно поделиться своими уникальными знаниями и навыками в обмен на другие необходимые знания [16].
Развитие EdTech (Educational technology — теория и практика проектирования, разработки, использования, управления и оценки процессов и ресурсов для обучения) открыло путь для широкого обмена знаниями по всему миру без привязки к конкретной школе или университету. Все большей популярностью пользуются онлайн-платформы, представляющие собой сборники учебных программ от разных авторов.
Самая известная из них, Coursera , объединяет более 40 млн слушателей свыше 3200 курсов, а оценка компании в 2019 году превысила 1 млрд долларов. По схожему принципу работают проекты EdX и LinkedIn Learning (. Среди российских сервисов — Skillbox , «Нетология» , iSpring .
Чуть дальше пошла компания по изучению английского Skyeng : ее функция не ограничивается «знакомством» репетитора и клиента, а включает полноценную поддержку всего процесса обучения: предоставление учебных материалов, методических наработок и сервис автоматической проверки домашних заданий.
Одновременно развиваются проекты, работающие по модели peer-to-peer (от потребителя к потребителю), в рамках которых ученики сами делятся друг с другом знаниями или материалами.
Австралийская площадка StudentVIP позволяет студентам перепродавать подержанные учебники, помогать друг другу в освоении разных дисциплин и даже делиться собственными конспектами по разным дисциплинам. Пользователи P2PU (Peer 2 Peer University) могут организовывать курсы и учебные группы для изучения тех или иных тем.
Особенность переживаемого ныне момента состоит в том, что образование под воздействием мер, принимаемых для нераспространения коронавируса, оказалось в ситуации практически мгновенного перехода от традиционных методов ведения образовательного процесса к иным формам, которые можно называть по-разному — инновационными, дистанционными, удаленными, но которые знаменуют гигантский натурный эксперимент. Те, кто на протяжении многих лет продвигает идеи «новых компетенций», «композитных степеней», «микростепеней», «маркировки вузов» и т. п., получили неожиданный подарок и не скрывают своего ликования. Например, ректор Высшей школы экономики Я. Кузьминов в интервью агентству РБК говорит: «Быстро растут глобальные платформы МООС — массовых открытых онлайн-курсов. Число их слушателей уже сопоставимо с числом студентов вузов. Люди, где бы они ни находились, могут изучать курсы Гарварда, Йельского университета, Лондонской школы экономики, МГУ. В передовых вузах мира (и России тоже) в учебной программе присутствуют сотни он-лайн-курсов, в основном — „чужих“ профессоров. В школах развиваются цифровые платформы, предлагающие множество вариантов уроков и самостоятельной работы. […] Новые технологии сделают образование менее формальным и более распределенным. […] Образовательные продукты потеряют университетскую (школьную) академичность, а место традиционных учебников займут цифровые интерактивные комплексы. Появится образовательная среда, где исчезнет разница между основным и дополнительным образованием. В результате, когда этот кризис все же закончится, мир вокруг нас окажется совсем другим» [17].
С чем нельзя не согласится, так это с тем, что мир вокруг нас изменится. Строго говоря, он уже меняется, а кризис сделает эти изменения более быстрыми, радикальными и, скорее всего, необратимыми. Но так ли безусловно хороши происходящие изменения?
На протяжении ряда лет авторы статьи — практические вузовские педагоги — наблюдают усиление в студенческой среде того, что можно охарактеризовать как шеринг-знания. Студенту что-то нужно узнать, он заглядывает в телефон или компьютер, получает информацию, использует ее и забывает. Широко известно высказывание Б. Шоу: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». Шеринг, по ряду признаков, вносит новое содержание в такой акт обмена. Идей не будет две, поскольку взятая для конкретного случая, решения задачи идея не занимает далее место в сознании пользователя, а возвращается в место ее хранения.
Возник термин long read — т. е. «длинное чтение». Это, как правило, текст, длина ко- торого не превышает 1500 знаков. Однако на практике предпочтение отдается еще более краткой информации. Но давно доказано: если память человека не заполнена информацией, то и мыслительного процесса практически не происходит.
Не стоит сбрасывать со счетов такой аспект, как обстановка, в которой осуществляется образовательный процесс, то, что традиционно называлось «образовательная среда». Удаленный доступ позволяет воспринимать онлайн-курс в кафе, дома, в парке. Можно параллельно играть в компьютерную игру, смотреть телевизор, общаться, заниматься домашними делами и т. п. Но доказано многочисленными экспериментами, что при совмещении видов деятельности в психологическом плане лидирует предметная деятельность. Возникают такие гибридные образовательные технологии, как еда на фоне лекции, уборка квартиры с наушниками, где звучит аудиолекция. Может быть, это соответствует чаяниям студентов? Уверенности в этом нет. Более того, есть исследования, которые показывают, что, с одной стороны, «чтение лекции под диктовку и доклады на семинарах предсказуемо видятся большинством студентов, как отжившие себя формы. Но потребность в живом контакте с преподавателем в аудитории остается для студентов намного ценнее, чем онлайн-обучение, которое они воспринимают с настороженностью» [18]. При этом примерно треть опрошенных студентов считают, что он-лайн-курсы должны проводиться редко, хотят развивать личностные умения, которые они не связывают с цифровой средой: лидерство, предпринимательство, работа в команде, управление проектами [18].
Есть некоторая статистика, которая заставляет задуматься о преимуществах шеринг-образования. С одной стороны, мировой рынок онлайн-обучения за два года вырос на 238 %: с 107 млрд долларов до 255 млрд долларов [19]. С другой — средний процент тех, кто закончил МООК-курсы (массовые открытые онлайн-кур-сы), составил приблизительно 15 %. А в целом в США этот показатель находится между 5 и 15 % [19].
По словам Максима Спиридонова — генерального директора «Нетологии-групп», компании TalentTech, «у флагмана мирового онлайн-образования Coursera, на платформе которого можно найти курсы ведущих российских вузов, средний показатель удержания студентов — четыре процента. То есть всего четыре процента доходят до середины курса.
Причем студенты не доходят до конца курсов вне зависимости от того, платят они за них или нет» [20].
Есть и иные, не менее важные аспекты обсуждаемой проблемы. Приходится признать, что три процесса идут пока несинхронно и порой противоречат друг другу. Эти три процесса: информационная революция, знаниевая революция и антропологическое развитие. Информационная революция, о которой опубликовано много работ [21–25], налицо и проявляется она в увеличении объемов информации, повышении скорости средств ее обработки, совершенствовании методов хранения, облегчении и ускорении доступа к ней пользователей, находящихся на практически неограниченном расстоянии, и т. д. Знаниевая революция как таковая, если приложить к ней оценочные критерии революции информационной, скорее всего, пока не происходит. Знание — это специфический продукт человеческой деятельности (научной, образовательной и др.). Задача образования — сформировать специалиста и прежде всего — его когнитивную сферу, т. е. знания. А это предполагает определенную мотивацию обучаемого, наличие целей и задач обучения, профессионализма педагога, системность, этапность, личностный компонент и еще многое друго е. В этом плане можно говорить о том, что информационная революция стала тормозом революции знаниевой в силу того, что информации много, она не всегда систематизирована, фрагментарна, становится все больше недостоверной информации (информационный шум).
Наконец, антропологический прогресс. Человек в контексте информационной революции не стал мыслить быстрее, запоминать больше (скорее, наоборот), он не стал креативнее и главное — у него сегодня нет мотивации овладевать знаниями прочно и на всю жизнь. Подспудно он знает, что всегда можно «погуглить» и найти нужные сведения, советы, рецепты и пр., что знания устаревают быстро и запасаться ими как минимум бесполезно.
На горизонте новая дифференциация общества. Одни будут иметь доступ к знаниям и их носителям в лице профессуры. Это будет некая нетократия [26], обладающая монополией на знания и доступ к ним. Вторые — консьюме-рат — люди, имеющие неограниченный доступ к онлайн-курсам, информационным ресурсам и другим шеринговым платформам.
Значит ли это, что нужно начисто отказываться от удаленных форм образования? Видимо, тоже нет. Прежде чем выносить какое-то определенное суждение по этим вопросам, нужно ответить на другие вопросы: должно ли образование «догонять» культуру и соответствовать ей? Не является ли наблюдаемое исторически повторяемое и устойчивое несоответствие образования типу культуры не отставанием образования, а его онтологически выражаемым автономным статусом?
Если это так, то шеринг-культура повлияет на образование, но произойдет это не вдруг и не столь радикально. Йозеф Шумпетер в книге «Капитализм, социализм и демократия» (Capitalism, Socialism and Democracy) писал: «Строго говоря, […] революции происходят не непрерывно, а дискретно и отделяются друг от друга фазами относительного спокойствия. Но весь процесс в целом действительно непрерывен, т. е. в каждый данный момент происходит или революция, или усвоение ее результатов» [27, с. 461]. В этой же работе он ввел понятие «творческое разрушение». То, что мы наблюдаем сейчас в образовании, имеет явные признаки разрушения. Творческое оно или еще какое-то, покажет ближайшее время, и у нас есть уникальная возможность изучать это явление с момента его зарождения.
Список литературы Шеринг как новый ориентир образования
- Асмолов, А. Г. Кризис современного образования / А. Г. Асмолов // Вузовская педагогика в информационном обществе. — Москва : РГГУ, 1998. — С. 37-47.
- Чучин-Русов, А. Е. Образование и культура / А. Е. Чучин-Русов // Педагогика. — 1998. — № 1. — С. 9-18.
- Борисенков, В. П. Острова надежды / В. П. Борисенков, Ю. У. Фохт-Бабушкин // Педагогика. — 1999. — № 5. — С. 67-71.
- Валицкая, А. П. Современные стратегии образования: варианты выбора / А. П. Валиц-кая // Педагогика. — 1997. — № 2. — С. 3-8.
- Видт, И. Е. Культурологические основы образования : монография / И. Е. Видт. — Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2002. — 164 с. — ISBN 5-88081-298-7.
- Запесоцкий, А. С. Образование: философия, культурология, политика / А. С. Запесоц-кий. — Москва : Наука, 2003. — 2-е изд. — 456 с. — ISBN 5-0200-6305-3.
- Корнетов, Г. Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса I Г. Б. Корнетов II Педагогика. — 1999. — № 3. — С. 43-49.
- В. Колесникова, И. А. Педагогические цивилизации и их парадигмы I И. А. Колесникова II Педагогика. — 1995. — № б. — С. В4-В9.
- Михайлов, Ф. Т. Перспективы гуманитаризации образования I Ф. Т. Михайлов II Философские исследования. — 1995. — № 4. — С. 29-30.
- Розанов, В. В. Сумерки просвещения I В. В. Розанов ; сост. В. Н. Щербаков. — Москва : Педагогика, 1990. — С. 3-90. — ISBN 5-7155-0429-5.
- Краевский, В. В. Интеллигентность как цель и содержание образования I В. В. Краев-ский II Мир гуманитарной культуры академика Д. С. Лихачева. — Санкт-Петербург, 2001. — С.20-23.
- Бирженюк, Г. М. Информационная революция требует адекватную модель образования I Г. М. Бирженюк, Т. В. Ефимова II Инновационное развитие профессионального образования. — 2019. — № 2 (22). — С. 12-17.
- Фромм, Эрих. Иметь или быть? I Эрих Фромм ; пер. Н. Войскунской, И. Каменкович, Е. Комаровой, Е. Рудневой, В. Сидоровой, Е. Фединой, М. Хорькова. — Москва : АСТ, 2000. — 44В с. — (Классики зарубежной психологии). — ISBN 5-237-04524-3.
- Разделяй и радуйся: как шеринг-экономика меняет мир II Vc.ru : [сайт]. — 2020. — URL: https:IIvc.ruIfutureI45102-razdelyay-i-raduysya-kak-shering-ekonomika-menyaet-mir (дата обращения: 17.04.2020).
- Toffler, Alvin. The Third Wave, 19B0. Тоффлер, Элвин. Третья волна I Элвин Тоф-флер ; пер. на рус. яз. А. Мирер, И. Москвина-Тарханова, В. Кулагина-Ярцева и др. II Гуманитарный портал : [сайт]. — URL: https:IIgtmarket.ruIlaboratoryIbasisI4821 (дата обращения: 17.04.2020).
- Актуальные тренды EdTech II Блог компании Puzzle English, Исследования и прогнозы в IT, Управление e-commerce, Управление продуктом, Бизнес-модели : [сайт]. — URL: https:II habr.comIruIcompanyIpuzzleenglishIblogI346018I (дата обращения: 14.04.2020).
- Кузьминов, Я. Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир I Я. Кузьминов II РБК : [сайт]. — URL: https:IIwww.rbc.ruIopinionsIsocietyI27I03I2020I5e7cd7799a79471ed230b774 (дата обращения: 10.04.2020).
- Щеглова, Д. В. Нас может ждать «антицифровой» откат I Д. В. Щеглова II Научно-образовательный портал IQ : [сайт]. — URL: https:IIiq.hse.ruInewsI352986845.html (дата обращения: 27.03.2020).
- Why No One Finishes An Online Course — And Why It Doesn't Matter. — URL: https:IIwww. influencive.comIwhy-no-one-finishes-online-courses (дата обращения: 30.03.2020).
- Спиридонов, М. Ваши курсы не проходят до конца? Вот как это исправить I М. Спиридонов II Rusbase : [сайт]. — URL: https:IIrb.ruIopinionIne-zakonchili-onlajn-kursyI (дата обращения: 02.04.2020).
- Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество : опыт социального прогнозирования I Д. Белл ; пер. с англ. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : Academia, 2004. — 788 с. — ISBN 04б5097138.
- Белл, Д. Социальные рамки информационного общества I Д. Белл II Новая технократическая волна на Западе. — Москва : Прогресс, 19Вб. — С. 330-342.
- Гайденко, П. П. Информация и знание I П. П. Гайденко II Философия науки : Вып. 3: Проблемы анализа знания. — Москва, 1997. — С. 185-192.
- Микешина, Л. А. Философия науки : Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие I Л. А. Микешина. — Москва : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. — 4б4 с. — ISBN 5-8982б-202-4.
- Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернетике I К. Шеннон. — Москва : Изд-во иностранной литературы, 19б3. — 830 с.
- Бард А. №^кратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма I А. Бард, Я. Зо-дерквист. — URL: https:IIspblib.ruIcatalogI-IbooksI10475602-netocracy-the-new-power-elite-and-llife-after-capitalism (дата обращения: 14.04.2020).
- Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия I Й. Шумпетер. — Москва : Эксмо, 2007. — 864 с. — ISBN: 978-5-699-19290-8.
- Видт, И. Е. Образование как феномен культуры: эволюция образовательных моделей в историко-культурном процессе : дисс. ... доктора пед. наук I И. Е. Видт. — Тюмень, 2003. — 316 с.
- Hamari, J. Airbnb and the Unstoppable Rise of the Share Economy I J. Hamari, A. Ukkonen II Forbes. — 2013.