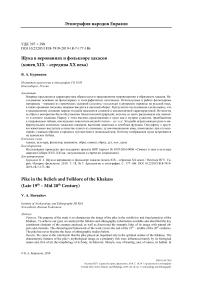Щука в верованиях и фольклоре хакасов (конец XIX - середина XX века)
Автор: Бурнаков Венарий Алексеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 7 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Впервые предлагается характеристика образа щуки в традиционном мировоззрении и обрядности хакасов. Исследование основано на фольклорных и этнографических источниках. Используемые в работе фольклорные материалы - отрывки из героических сказаний (алыптығ нымахтар) в авторском переводе на русский язык, а также архивные сведения, впервые вводятся в научный оборот. В результате исследования сделан вывод, что в традиционном сознании народа эта рыба наделяется сложной и неоднозначной характеристикой. Во многом ее образ и восприятие были обусловлены биологической природой, поэтому ее часто расценивали как опасного и алчного хищника. Наряду с этим имелись представления о щуке как о мудром существе, приобщенном к сокровенным тайнам, воплощении повелителя водной стихии - суғ ээзi. Эта рыба играла важную роль в мифоритуальном комплексе хакасских шаманов, выполняя защитные и лечебные функции. Она наряду с другими животными выступала в качестве одного из ключевых духов-помощников кама, помогавших при его мистериях, главным образом в процессе путешествия в подводный мир. Поэтому изображения щуки встречаются на шаманских бубнах.
Хакасы, культура, фольклор, шаманизм, образ, символ, обряд, дух, тс, щука
Короткий адрес: https://sciup.org/147220145
IDR: 147220145 | УДК: 397 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-7-177-186
Текст научной статьи Щука в верованиях и фольклоре хакасов (конец XIX - середина XX века)
В традиционной картине мира хакасов животные и рыбы занимали заметное место. Среди представителей ихтиофауны особенно выделялась щука (хак. сортан ). Мировоззренческий комплекс хакасов, связанный с этим существом, прежде никогда не становился объектом специального этнографического изучения, поэтому целью исследования является характеристика образа щуки в мировоззрении и обрядовой практике хакасов. Источниковая база исследования включает в себя фольклорные и этнографические материалы. Фольклорные произведения представляют собой эпосы, мифы, сказки, пословицы, загадки на хакасском и русском языках. Некоторые из них впервые переводятся автором на русский язык. Хронологические рамки работы охватывают конец XIX – середину XX в., что определено состоянием и возможностями базы источников по теме исследования.
Результаты исследований и обсуждение
Щука является одним из распространенных водных хищников. Известный ихтиолог Л. П. Сабанеев, характеризуя эту рыбу, совершенно точно подметил, что «по своей хищности, повсеместному распространению и величине, которой уступает только далеко не столь многочисленному сому, щука, несомненно, составляет одну из наиболее замечательных и наиболее известных пресноводных пород рыб» [Сабанеев, 1959. С. 194]. Обращает на себя внимание то, что вторая составная часть латинского названия щуки Esox Lucius является однокоренной и семантически тождественной слову Lucos, обозначающему ‘хищник / волк’ [Подоскина, 2007]. В этой связи рассматриваемый ихтионим с латыни на русский язык может быть буквально переведен как «голодный хищник / волк», что совершенно точно характеризует природу щуки. Ее хищническая натура проявляется уже в строении зубов и в целом – ротовой полости. Зубы расположены таким образом, чтобы удобнее было схватить и удержать добычу, а затем быстро ее заглотить. Мелкие зубы загнуты внутрь пасти и располагаются на языке и верхней челюсти, а на нижней челюсти имеются клыкообразные зубы. Указанные анатомические особенности нашли отражение в устном народном творчестве хакасов, где ее образ представлен в виде алты азығлығ ала сортан – ‘с шестью клыками пестрой щуки’ (Айдолай, 1959. С. 104).
В народе считали, что внешность щуки напрямую связана с ее сущностью. Представление о ней как о ненасытном, всепоглощающем и постоянно вбирающем в себя хищном существе, очевидно, нашла воплощение и в самом ее хакасском наименовании – сортан . Корень дан- ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 7: Археология и этнография
Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2019, vol. 18, no. 7: Archaeology and Ethnography ной лексемы -сор- в тюркских языках восходит к такому значению, как «втягивать, всасывать, впитывать» (ДС, 1969. С. 509; ЭСТЯ, 2003. С. 334). Отметим и тот факт, что в хакасском языке понятие хищник обозначается термином ачын, например, «сортан – ачын палых» – ‘щука – хищная рыба’ (ХРС, 2006. С. 344). Слово ачын помимо указанного имеет еще такие дополнительные значения, как ‘алчный’ и ‘жадный’ (ХРС, 2006. С. 91). Образ щуки как алчущей и ненасытной, с развитым инстинктом убийцы, запечатлен и в фольклоре. Так, в сказке «Змея и щука» ее поведение получает порицание со стороны других животных: «Не зря тебя называют разбойницей. Неужели тебе мало двух окуней, что ещё третьего хочешь съесть. Нельзя быть такой жадной» (Змея и щука, 1958. С. 3).
Изучая биологические особенности щуки, отметим, что не только пасть и зубы, но и тело определенно характеризует ее как хищника. Она имеет стреловидную удлиненную форму, выдающуюся вперед голову, широкую пасть и мощные челюсти. Вытянутое в длину тело и остроконечная голова делают ее обтекаемой и хорошо адаптированной для подводного передвижения. Она обладает значительным проворством и ловкостью движений. Указанные зоологические особенности ее поведения нашли отражение в хакасской поговорке – сортан осхас толғалҷых – ‘вертлявый, как щука’ (ХРС, 2006. С. 344).
Глаза у щуки большие, выпученные и подвижные. Они располагаются довольно высоко, что позволяет ей обозревать обширное пространство, не поворачивая головы. Щука хорошо видит все, что происходит как впереди нее, так и над ней или сбоку. Она обладает и отлично функционирующей боковой линией – осязательным органом, тонко реагирующим на малейшие вибрации [Сабанеев, 1959. С. 195]. Все это указывает на ее большой охотничий потенциал. Заметив жертву, она медленно поворачивается и затем совершает молниеносный бросок на расстояние, которое зачастую в разы превышает длину ее тела. Л. П. Сабанеев по этому поводу сообщал, что «редкой рыбе удается избегнуть зубастой пасти погнавшегося за ней хищника, тем более что последний преследует ее не только в воде, но даже и в воздухе» [1959. С. 198]. В мифологическом сознании способность щуки выпрыгивать из воды осмысливается как полет. И это чрезвычайно сближает ее образ с птицей. Поэтому совершенно не случайно в хакасском фольклоре имеются упоминания о том, что щуки могут превращаться в птиц и улетать [Бутанаев, Бутанаева, 2008. С. 112]. Устремленность щуки в преследовании своей жертвы получила отражение в устном народном творчестве хакасов. Так, некоторые отрицательные персонажи, погружаясь в воду с целью догнать и погубить героя, непременно оборачиваются в щуку [Кузнецова, 1899. С. 142].
Успех охоты щуки во многом определяется еще и соответствующим камуфляжем. Окрас ее чешуи зависит от среды обитания, окружающей флоры и возраста. Она чаще бывает серовато-зеленой, серой с желтизной или серо-коричневой. В фольклоре хакасов эта особенность способствовала закреплению за ней такого типичного колоративного признака, как пестрота и серость; в героической эпике представлен персонаж ала сортан – ‘пегая / пёстрая щука’ (Албынҷi, 1951. С. 60; Айдолай, 1959. С. 104).
Степень ее погруженности в глубину имеет прямую зависимость от размера – чем она больше, тем старается глубже уйти [Сабанеев, 1959. С. 195–200]. Хакасами подобные глубоководные рыбные места обозначались терминами кӱңӱре или кӧне (ХРС, 2006. С. 200, 216). Указанная особенность среды обитания, а также зоологическая специфика щуки, способствовали тому, что в религиозно-мифологическом сознании получила развитие идея о ее вездесущности, а также подвластности ей водного пространства.
Столь неординарные зоологические данные, а также единое водное пространство охоты, с ее непосредственным объектом – рыбой, весьма сблизили щуку с таким сильным, быстрым и беспощадным хищником, как выдра (хак. хамнос ). Отождествление образов указанных животных, с намеком на их превосходные охотничьи способности, нашло отражение в народной загадке о выдре: таға сыхса аң осхас, тағдаң инзе, саңа осхас, суға кipзe сортан осхас, ( хамнос ) – ‘на гору залазит, как зверь, с горы спускается, как лыжи, в воду залезет, словно щука (выдра)’ [Доможаков, 1951. С. 72].
В традиционном мировоззрении щука является воплощением суғ ээзi – духа-хозяина воды (реки, озера, моря и пр.). В обрядовой поэзии народа распространен такой ее эпитет, как ÿзең аттығ кер сортан – ‘морская щука (гнедая), имеющая три названия’ [Дыренкова, 2012. С. 135]. В указанном наименовании вызывает интерес слово кер (или кир ). В дореволюционных изданиях, как правило, использовался вариант написания кер (Алтын Пыркан, 1868. С. 88–136). Подобное начертание позволило некоторым авторам буквально перевести это слово как ‘гнедая’ [Дыренкова, 2012. С. 135]. Действительно, в хакасском языке лексема кер обозначает определенный цвет или, чаще, масть животного – ‘гнедая’ или ‘каряя’ (ХРС, 2006. С. 157). Между тем по нормам современной хакасской орфографии применительно к мифической щуке обычно употребляется слово кир / кирi , отсюда кир сортан (Бутанаев, 1999. С. 43). Следует пояснить, что в хакасском языке термин кир в отличие от кер в наши дни наделяется совершенно иным смыслом: огромный; применительно к фольклорным персонажам – существо огромных размеров, великан; старый, пожилой (ХРС, 2006. С. 168). Указанные значения в полной мере применимы к образу щуки как существу, олицетворяющему владыку вод, – суғ ээзi . Так, в религиозно-мифологическом сознании хакасов кир сортан воспринималась в качестве рыбы гипертрофированных размеров, которая существует в протяженном пространственно-временном континууме. Более того, она осмыслялась как некое прасущество, появившееся на свет в эпоху первотворения. Поэтому совершенно не случайно шаман, обращаясь к ней, акцентировал внимание на ее архаических корнях: «…тебя, морскую щуку, имеющую три названия, творил (праотец) Адам» [Катанов, 1907. С. 557].
В фольклоре представлен также сюжет о щуке – чудесном помощнике героя в приобретении сокрытых знаний [Овичев, 1905] или в поиске пропавших в водной пучине людей. Так, в богатырском сказании «Картага Мерген» герой обращается к духу-хозяину воды суғ ээзi с просьбой найти сестру. Тот соглашается ему помочь. При этом в целях обеспечения успеха миссии он превращается в щуку:
Кара пор атка алтаныб-алчык , Ебiрiп jӧрӱп iзiн iстеп jӧр , Jолын jоллап таппаҷык , Ак талаiның казына jорт-келҷiк . “ Суг езi, абаң! , – тедiр , – Туңмам каiда парғанын Пiлдiңме, суг езi ?”.
“ Jок, наijы, пiлбедiм ”.
“ Аны сен пiлбiн
Но неме еткезiң ?”, – тедiр .
“ Саjымны санабын ,
Кумумну iлбебiн ,
Парған jерiн пiлбессiм ” “ Талайға кiрген полза Талаiның iстiнең таб-ал !” “ Талаiда полза табарбын ”. “ Табар ползаң, пар !”, – тедiр . Суг езi талаiға кiр-парды , Сортан полып оiлаб-ышшык
(Картага…
Темно-серого коня оседлавши, Кругом объехал, следы обследовал, Дорогу, поискав, не нашел, Белого моря берега достигши.
“Хозяин воды, отец [наш]!, – говорит, – Куда младшая моя [сестра] отправилась Узнал ли [ты], хозяин воды?”.
“Нет, друг, не узнал”.
“Этого не узнав,
Что [ты] делал?”, – сказал.
“Гальку [свою] считал, Песок [свой] просеивал,
[Куда она] отправилась [ту] землю, не знаю [я]” “[В] море если погрузился,
[В] пучине моря найди!”
“[В] море [если она] будет, найду”.
“[Если ее] искать будешь, [то] иди!”, – сказал. Хозяин воды [в] море нырнул, [В] щуку обратившись, умчался , 1868. С. 496) 1.
В эпосе «Ала Картыга – Белый Сокольчик» выделяется чудесная способность щуки с легкостью преодолевать серьезные препятствия в пути. При этом она может не только быстро проплывать труднопроходимые глубоководные места, но еще и без особых затруднений перемещаться «по сухому пути до моря» [Титов, 1856. С. 192]. Твердая убежденность в том, что щуке целиком и полностью доступна водная стихия и иные пространства, способствовала дальнейшему развитию сюжетов о ней. Во многих фольклорных произведениях герои уже сами чудесным образом метаморфизируются в щуку с целью обнаружения пропажи или получения тайных знаний, сокрытых в морских глубинах. Причем такими персонажами могут быть не только люди, но и животные. Н. Ф. Катанов по этому поводу писал: «Жеребенок или лошадь часто превращается в человека или золотую утку, или щуку» [1887. С. 229]. Повествование о перевоплощении героя в щуку получило большое распространение в эпическом творчестве хакасов. Приведем соответствующие примеры из богатырских сказаний:
Анаң айланып Хулатайның оолғы
Iкi пiлегiн чыхчынып, iкi идегiн хыстынып ,
Пас-килiп, тӧңiс талай суғa кире ceгipдi ,
Ала сортан палых полып чӱс-сыхты
(Албынҷi,
Затем, обернувшись, Хулатая сын,
Обе кисти [свои] обнажив, обе полы [свои] подоткнув,
Подошёл [к] морю-океану [великой] воде [и] прыгнул [в него],
Пестрой щукой-рыбой став, поплыл
1951. С. 60).
Хан Чачах сах аннаң айланып , Тура салып, тip сiлiгiнiбiскен , Алты азығлығ ала сортан полып ,
Талай суғның тӱбiне кире сегiрiбiскен (Айдолай,
Хан Чачах, вот оттуда возвратившись, Остановилась, стоя встряхнулась, [С] шестью клыками в пеструю щуку обратившись,
На дно великой реки нырнула
1959. С. 104).
Рассмотренные особенности морфологии и поведения щуки, вера в ее мистическую сущность, а также непосредственное отождествление ее с духом-хозяином воды суғ ээзi во многом послужили основой того, что хакасы этой рыбе отвели особую роль в шаманизме и традиционной обрядности. П. Е. Островских, анализируя ее значение в ритуальной практике хакасских шаманов, пришел к однозначному выводу о том, что «играет также при шаманстве роль и щука» [1895. С. 342].
Щука была распространенным тӧс ’ ом – духом-помощником шамана, и называлась кир сортан . Рыба помогала шаману в процессе камланий, особенно при путешествиях в водной среде и непосредственно в ходе контактов с главным ее духом – суғ ээзi . В текстах обычно фигурирует одна либо две щуки (самка и самец) [Катанов, 1889; Бутанаев, 2006. С. 98]. Старики-хакасы, отмечая ее роль в процессе шаманских мистерий, сообщали, что «когда шаман во время камлания переправлялся через реку, то превращался в рыбу-щуку ( сортан палых )» 2. В шаманских молитвах имеются следующие слова: «Если я войду в воду, то, став щукой, поплыву»; «моя щука, отдыхай в теплой воде заводи» [Бутанаев, 2006. С. 232–233].
Хакасы верили, что шаман посредством магической силы щуки исцеляет людей от водянки, всевозможных брюшных болезней, а также приносил облегчение при заболеваниях ног и груди [Катанов, 1907. С. 580; Иванов, 1955. С. 213; Потапов, 1991. С. 194]. При этом следует обратить внимание на то, что довольно часто сами щуки становились коренной причиной указанных недугов. В таком случае шаман, будучи сам в ихтиоморфном обличии, загонял вредоносных рыб в специально отведенные для них дальние места, чтобы оградить людей от их негативного влияния. По этому поводу Н. Ф. Катанов писал: «Сильный шаман гонится за щуками, водяными духами, до тех пор, пока не загонит их за девять морей, во владения горного царя. Плохой шаман возвращается с дороги; тогда щуки идут снова к больному, и болезнь продолжается» [Катанов, 1893. С. 30].
Изображения щук часто встречалось на шаманских бубнах. Они, как правило, изображались черной краской и располагались в их нижней части, олицетворявшей Нижний мир [Катанов, 1893. С. 30; Яковлев, 1900. С. 117]. Этнограф С. В. Иванов, исследовав пятьдесят хакасских бубнов, зафиксировал на них десять изображений рыб [1955. С. 209]. Надо полагать, что все они символизировали собой щук как ключевых ихтиоморфных помощников шамана.
У хакасов щука мыслилась не только в качестве сверхъестественного существа, служащего шаману, но и как одно из воплощений духа-покровителя овец. Полагали, что если человек во сне видел щуку, как и некоторых других животных, то это сигнализировало о необходимости принесения жертвы обозначенному духу, иначе сновидца постигнет болезнь [Катанов, 1907. С. 592]. Отметим, что некоторые домашние пенаты – тӧс ’ ы , в том числе и аба тӧс – ‘медвежий фетиш’ в качестве жертвенного подношения предпочитали щуку и уху из нее [Катанов, 1907. С. 576; Кузнецова, Кулаков, 1898. С. 196].
Относительно щуки как пищевого объекта у хакасов, как и у других народов Южной Сибири, ее использование строго регламентировалось: «Щук, как воплощений водяных духов не употребляют в пищу ни минусинские татары, ни урянхайцы, ни карагасы» [Катанов, 1893. С. 30]; «По сообщению Г. Шоева, женщины качинки не едят щуки (сортан), которая имеет какое-то отношение к религиозным обрядам» [Кузнецова, Кулаков, 1898. С. 196]; «У качин-цев и сагайцев, да и у тувинцев, многие шаманисты даже не ели щук, опасаясь заболеваний, несмотря на то, что общего запрета на употребление в пищу рыбы не существовало» [Потапов, 1991. С. 194].
Но щуку добывали не только в ритуальных, но и в медицинских целях: «щучий жир употребляется, как лекарство» [Кузнецова, Кулаков, 1898. С. 196]. Значимость щуки в этих сферах была велика – ее образ стал ассоциироваться даже с таким важным органом тела человека, как сердце. Подобное отождествление представлено в следующей народной загадке: сӱген iстiнде сортан тулғапча ( чӱрек ) – ‘внутри верши бьется щука (сердце)’ [Доможаков, 1951. С. 75].
Заключение
Представленные материалы позволяют сделать вывод о том, что щука выполняла важную роль в духовной культуре хакасов. В фольклоре и обрядовой практике народа ее образ получил широкое распространение, на формирование характерных черт которого повлияла сама биологическая природа щуки, прежде всего морфология тела, поведение, образ жизни, способ охоты и, конечно же, среда обитания. Образ щуки неоднозначен. Проекция ее зоологических особенностей выразилась главным образом в наделении такими чертами, как проворство, хищность и алчность. Вместе с тем щука воспринималась еще и как обладающее тайными знаниями мудрое существо, которому подвластны водные пространства и их обитатели. При этом она нередко выступала в качестве чудесного помощника, выполняя функцию тӧс ’ а – духа-помощника шамана или помогая главному герою в решении его проблем. Зачастую и сами герои оборачивались в щуку для достижения целей, связанных с потусторонним миром. Щука являлась воплощением духа-хозяина воды – суғ ээзi , а это божество играло одну из ключевых ролей в традиционной обрядности хакасов. Поэтому не удивительно, что изображения щуки были представлены в ритуальной атрибутике – шаманских бубнах. Задействовалась она и в народной медицине, но как пищевой объект для хакасов и других народов Южной Сибири табуировалась.
Список литературы Щука в верованиях и фольклоре хакасов (конец XIX - середина XX века)
- Бутанаев В. Я. Традиционный шаманизм Хонгорая. Абакан: Изд-во ХГУ, 2006. 253 с.
- Бутанаев В. Я., Бутанаева И. И. Мир хонгорского (хакасского) фольклора. Абакан: Изд-во ХГУ, 2008. 376 с.
- Дыренкова Н. П. Вода, горы и лес по воззрениям турецких племен Алтайско-Саянского нагорья // Дыренкова Н. П. Тюрки Саяно-Алтая. Статьи и этнографические материалы. СПб.: МАЭ РАН, 2012. С. 131-188.
- Доможаков В. И. Хакасские загадки // Зап. ХакНИИЯЛИ. Абакан: Хакгосиздат, 1951. Вып 2. С. 60-84.
- Иванов С. В. К вопросу о значении изображений на старинных предметах культа у народов Саяно-Алтайского нагорья // Сб. МАЭ. М.; Л., 1955. Т. 16. С. 165-264.
- Катанов Н. (священник). Шаманский бубен и его значение // ЕЕВ. 1889. № 6. С. 112-114.
- Катанов Н. Ф. Сказания и легенды Минусинских татар // Сибирский сборник. 1887. Т. 25. С. 218-234.
- Катанов Н. Ф. Письма Н. Ф. Катанова из Сибири и Восточного Туркестана. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1893. 114 с.
- Катанов Н. Ф. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов (Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. В. Радловым). СПб.: Имп. Академия наук, 1907. Т. 9. 640 с.
- Кузнецова А. А. Четыре сказки минусинских инородцев, записанные А. Кузнецовой // ЖС. 1899. Вып. 1. С. 140-149.
- Кузнецова А. А., Кулаков П. Е. Минусинские и ачинские инородцы. Красноярск: Тип. Енис. губ. управления, 1898. 298 с.
- Овичев. Богатырские поэмы Минусинских татар // Сибирский наблюдатель. 1905. Кн. 3. С. 1-9.
- Островских П. Е. Этнографические заметки о тюрках Минусинского края // ЖС. 1895. Вып. 3-4. С. 297-348.
- Подоскина Т. А. Методическое пособие по запоминанию латинских названий в биологии, сопровождаемое словарем. 2007. URL: http://stomfaq.ru/7278/7278.pdf (дата обращения 15.03.2019)
- Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. 320 с.
- Сабанеев Л. П. Жизнь и ловля пресноводных рыб. Киев: Гос. изд-во сельхоз. лит. Украинской ССР, 1959. 668 с.
- Титов В. Богатырские поэмы минусинских татар // ВИОРГО. 1856. Ч. 15. С. 187-200.
- Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и Объяснительный каталог Этнографического отдела музея. Описание Минусинского музея. Минусинск: Тип. В. И. Корнакова, 1900. Вып. 4. 212 с.