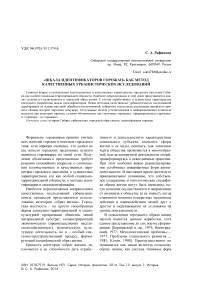"Шкала идентификаторов горожан" как метод качественных урбанистических исследований
Автор: Рафикова Светлана Анатольевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Ставится вопрос о соотношении количественных и качественных характеристик городского населения Сибири как особой социальнотерриториальной общности. Наиболее перспективным в этой связи представляется анализ степени его включенности в городской образ жизни. С учетом атрибутивных и сущностных характеристик последнего разработана шкала идентификаторов. Новая методика качественных урбанистических исследований апробирована на основе массовой обработки воспоминаний, собранных в результате реализации авторского проекта «Живая история: народные мемуары». Полученные модели (статистическая и информационная) позволили выделить три категории горожан, условно обозначенных как «истинные горожане», «формирующиеся горожане» и «горожане – не горожане».
История сибири, урбанистика, городской образ жизни, идентификация горожан
Короткий адрес: https://sciup.org/147218980
IDR: 147218980 | УДК: 94(470):
Текст научной статьи "Шкала идентификаторов горожан" как метод качественных урбанистических исследований
Формально горожанами принято считать всех жителей городов и поселков городского типа, хотя априори очевидно, что далеко не все жители городских населенных пунктов являются горожанами по своей сути. Получение объективного представления требует решения сложнейших вопросов: о соотношении количественных и качественных параметров городского населения, о сущностных характеристиках его как особой социальнотерриториальной общности, о методах идентификации и самоидентификации.
Наиболее перспективным направлением качественных исследований урбанизационных процессов представляется использование категории «образ жизни». Городская местность – не просто своеобразная форма социально-территориальной и социокультурной организации общества, некий материальный субстрат, концентрирующий экономическую (преимущественно несельскохозяйственную), политическую, культурную деятельность, но и – особый системно-пространственный процесс, формирующий специфический образ жизни.
Ценность категории «образ жизни» заключается в ее способности дать атрибу- тивную и деятельностную характеристики социального субъекта, выделить сферы жизни и ее виды, показать, как типичные черты общества проявляются в многообразной, всегда конкретной деятельности людей, трансформируясь в повседневные практики. При этом особенно важно реконструирование устойчивых инвариантных форм жизнедеятельности. В настоящее время достигнуто принципиальное понимание, что собственное содержание и онтологическая специфика образа жизни могут быть выявлены, когда познание осуществляется в направлении от индивида к обществу (а не иначе!), когда становятся понятны конкретные механизмы действия и взаимодействия людей друг с другом и окружающими их условиями на уровне повседневности.
В осмыслении городского образа жизни наукой имеются ценные наработки, хотя единое представление до сих пор не сформировано [Борщевский и др., 1975; Виноградский, 1977; Методологические проблемы…, 1977; Проблемы социального развития…, 1981; Коган, 1990]. Преимущественно он понимается как некая антитеза сельскому образу жизни, как система типичных форм
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 1: История © С. А. Рафикова, 2014
жизнедеятельности, сформированных специфической социально-пространственной городской средой. Причем критерии этой типичности сугубо историчны. Но очевидно, что в городе, помимо отличной от традиционной сельской местности среды обитания (городских условий жизни), формируется особый склад повседневной жизни, определенный тип сознания, иная форма организации и функционирования семьи.
На теоретическом уровне проблема соотношения формальных и реальных показателей численности городского населения впервые была обозначена культурологами, заговорившими о так называемой «псевдогородской» культуре. Принципиально прозвучал вывод о том, что «городские процессы проявляются в полной мере не во всех городах», и существенные различия фиксируются «не только при переходе от одного города к другому, от менее развитой городской среды к более развитой, но и внутри одного и того же города» [Коган, 1986. С. 8– 9]. В ряде трудов указывалось на существование в городах «барачно-коммунального», «слободского», т. е. не городского по сути образа жизни [Глазычев, 1988. С. 42; Алисов, 1997].
Социологами предпринимались попытки создания конкретных программ исследования образа жизни, при этом наряду с социально-профессиональными характеристиками городского сообщества большое значение придавалось показателям социальной инфраструктуры [Куцев, 1981]. Но даже на теоретическом уровне матрица получалась слишком сложной и многомерной. В одной из наиболее проработанных моделей в качестве типологической базы выделено полтора десятка только основных социально-профессиональных групп. Помимо этого предлагалось для каждой из них учитывать такие дифференцирующие критерии, как жилищные условия, размеры доходов, уровень образования, характер культурной деятельности и т. п. [Пароль, 1982]. Реализовать на эмпирическом уровне данную программу не удалось в силу объективных причин и отсутствия необходимых входных данных.
Написанные на сибирском материале работы по городоведческой и урбанизационной тематике имеют в основном экономико-географический, социологический или справочно-демографический характер и по- священы более раннему периоду [Алексеев, Исупов, 1986; Букин, Исаев, 2005; Воробьев, 1977; Исупов, Московский, 1984; Исупов, 1991; Куцев, 1982; Лукьяненко, 1973; Малинин, Ушаков, 1976; Население…, 1997; Перцик, 1980; Проблемы социального развития…, 1981; Урбанизация Советской Сибири, 1987].
Вопросы качественных критериев идентификации городского населения применительно к истории формирования сибирских горожан 1960-х гг. ставятся впервые в данной статье. Применительно к иным территориальным и хронологическим рамкам проблема также далека от своего решения. Поэтому создание модели городского образа жизни, без преувеличения, – сложная и актуальная проблема междисциплинарного исследования. До сих пор не определены критерии «городского» и «псевдо-городского», равно как и контуры вписанных в них сообществ; малоубедительна увязка маргинальных элементов исключительно с недавними мигрантами из села; рассуждения о наличии в городах «не горожан» остаются на уровне словесных гипотетических оценок.
Основным источником информации по населению городов являются Всесоюзные переписи населения, позволяющие получить исходные статистико-демографические данные. Переписи проводились по широкой программе, фиксируя не только численность и распределение горожан по населенным пунктам, но также их половозрастной, социальный и национальный состав, образовательный уровень, включенность в семейные структуры и пр.
За период между переписями 1959 и 1970 гг. сибирских горожан стало на 32 % больше, их численность превысила 12 млн чел. Занимая почти 60 % территории РСФСР, Сибирь концентрировала около 15 % российского городского населения [Итоги…, 1963. С. 21–23; Итоги…, 1972. С. 12–15]. Урбанистический облик всего региона, по сути, определяли 5 из 11 субъектов, в которых проживало почти ¾ горожан: Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области, Красноярский край, Алтай. К 1970 г. в Сибири официально значился 121 город, не считая трех не обозначенных на карте засекреченных городов. К категории «крупнейших» (с населением более 500 тыс. чел.) относилось 3 города: Новосибирск, Омск, Красноярск, в которых проживала почти пя- тая часть сибирского городского населения; еще около 37 % горожан было сосредоточено в 18 «крупных» (от 100 тыс. до 500 тыс. чел.) городах Сибири, около 7 % – в 12 «средних» (от 50 тыс. до 100 тыс. чел.), почти 17 % – в 84 «малых» (менее 50 тыс. чел.), около 16 % – в 310 поселках городского типа [Рафикова, 2013].
Однако переписи дают лишь одномоментный и далеко не полный срез показателей и не учитывают целого ряда факторов, оказывающих влияние на формирование урбанизированной среды [Рафикова, 2010]. Да и вся совокупность формальных статистико-демографических данных не способна ответить на вопрос, насколько проживавшие в городской местности люди были горожанами по своему образу жизни. Выход на этот, сравнительно новый для отечественной историографии круг проблем, настоятельно требует привлечения дополнительных источников. Определенную информацию содержат данные активно проводившихся в 1960-е гг. социологических обследований (анкетирования, бюджеты времени), способных дать сведения более детализированные, хотя и фрагментарные, зачастую нерепрезентативные. Огромный потенциал несут в себе источники личного происхождения, которые к тому же можно создавать и обрабатывать в режиме реального времени.
В данной статье излагается апробированная при написании докторской диссертации авторская методика исследования городского населения, посредством инновационного «измерения» последнего по идентификационной шкале городского образа жизни. Основываясь на анализе комплекса информации, созданного в результате исторического, демографического, экономического, геоур-банистического, культурологического анализа и на собственных логических доводах, обозначим главные характеристики образа жизни горожан.
-
• Резкое разграничение человеческой деятельности по сферам, времени, пространству, и при этом – высокая территориальная концентрация множества разнородных ее форм, в результате чего общественные проявления в городе отличаются одновременно концентрированностью и гетерогенностью.
-
• Высокая мобильность: территориальная, социальная, профессиональная, образовательная. Поскольку каждый локус про-
странства насыщается разнообразными возможностями и более высоким потенциалом, то именно город предоставляет несравненно большую степень свободы в выборе образцов. Например, в 1970 г. в городе можно было выбирать максимально из 45 тыс. профессий, в то время как в деревне – лишь из 100 [Пивоваров, 1999. С. 95].
-
• Более комфортные по сравнению с сельскими условия проживания: благоустроенное жилье, современная бытовая техника и меблировка квартир, прочие жизненные удобства.
-
• Принципиально отличный бюджет времени: менее выраженная сезонность деятельности, но более явная и все более индивидуализирующаяся досуговая ее составляющая (разнообразное потребление культурных благ, проведение отпусков в зонах рекреации и пр.), которая воспринимается не как праздность, а именно как деятельность.
-
• Создание мощного информационного поля: развитие средств сообщения, трансляция огромного потока информации (печать, радио, телевидение), активизация общественно-политической жизни, живой интерес к событиям в мире, стране, городе.
-
• Изменение субъективного коммуникативного пространства. С одной стороны, в городе возрастает значимость личных качеств, все более проявляется избирательность в общении, усложняются контакты, на смену кровнородственным и близкососедским отношениям приходят иные формальные и неформальные общности. С другой же стороны, поскольку человек выходит из-под контроля общины, за пределы привычных традиций, пересечение многих кругов общения обезличивает обыденные отношения, растворяя индивида в массе малознакомых и незнакомых людей, повышает значимость самоконтроля.
-
• Более быстрая трансформация традиционной большой многопоколенной многодетной семьи в простую малую нуклеарную группу с небольшим числом детей и работающей матерью. Изменение собственно семейных функций за счет явного выделения и вынесения за рамки семьи внешней (производственной, экономической) и передачи в значительной степени прочих функций сфере обслуживания.
-
• Самоидентификация горожанина, осознание своей принадлежности к городскому
сообществу, комфортное самоощущение в условиях урбанизированной среды, формирование особой ментальности.
По сути, речь идет о способах формирования городской идентичности и системы типичных форм жизнедеятельности в рамках специфической городской среды. Безусловно, список приведенных факторов не является исчерпывающим, но представляется достаточно полным и емким в качестве основы для выработки исследовательского инструментария – шкалы идентификаторов горожан.
В этой шкале показатель мобильности предлагается рассмотреть через повышение уровня образования, квалификации и социального статуса, продвижение по службе, перемену места работы и жилищные переезды с улучшением условий проживания. К значимым материальным благам отнесены: тип жилища, его меблировка и оснащенность культурно-бытовой техникой, наличие разнообразного гардероба с модными новинками. Маркерами интеграции в городскую культуру предлагается считать насыщенную досуговую деятельность, высокую информированность об общественно-политических событиях и участие в них. Модель городской семьи рассматривается через ее тип, детность, стабильность, а также через делегирование ряда функций сфере обслуживания. В отдельный блок вопросов выделен круг общения горожан, через определение тесноты связей родственных, соседских, корпоративных.
В результате перехода от общих формулировок к формализованным признакам получилась некая матрица, которую предстояло заполнить входными данными. Дело оставалось «за малым»: нужен был источник, содержащий максимально полную информацию по внушительному списку вопросов, да еще и в динамике. Но поскольку такового в принципе не существовало, пришлось его создать [Рафикова, 2009].
Речь идет о воспоминаниях обычных людей, живших в Сибири в 1960-е гг.. Специальной обработке подверглась внушительная часть личного архива, собранного в результате пятилетней реализации проекта «Живая история: народные мемуары». Из более чем полутысячи источников было выделено 160 наиболее информативных нарративов жителей Красноярска, формализованных сначала по 207 позициям. На следующем этапе было отобрано 138 мемуаров (из дальнейшей об- работки исключены детские воспоминания), позволяющих проследить динамические изменения за десятилетие с учетом 21 сущностного фактора. Все данные, сведенные в Excel-таблицы, составили массив для статистической и информационной обработки.
Степень проявленности каждого фактора оценивалась по трем уровням: высокий, средний, низкий, с соответственным начислением баллов: 1, 2, 3. Таким образом, для каждого респондента минимально возможная сумма баллов теоретически могла равняться 21, что означало бы в наибольшей степени проявленный городской образ жизни, максимальная же сумма – 63, напротив, свидетельствовала бы о практическом отсутствии признаков оного в повседневной жизнедеятельности респондентов. Полярная ситуация не встретилась ни разу, но разбивка по шкале осуществлялась, исходя из пограничных значений, с поправкой на те факторы, которые лишены априори однозначной оценки. Например, стабильная семья и работа или тесные связи с коллегами и соседями – это не повод отказывать человеку в статусе горожанина. В результате к категории «истинных горожан» были отнесены респонденты, набравшие от 21 до 35 баллов, к «формирующимся горожанам» – от 36 до 50 баллов, к «горожанам – не горожанам» – от 51 до 63 баллов.
Уже на стадии первичной статистической обработки были получены интересные результаты. Наиболее проявленными признаками городского образа жизни оказались показатели мобильности: массовые жилищные переезды в основном в благоустроенные квартиры, быстрое изменение социального статуса, повышение квалификации и продвижение по службе, перемена места работы с улучшением условий труда и его оплаты. В разряд доминирующих маркеров попала и насыщенная досуговая деятельность. К среднепроявленным характеристикам можно отнести процесс перестройки семьи, уменьшение роли личного подсобного хозяйства, формирование нового интерьера и гардероба, что свидетельствует не только об активизации данных процессов, но и об их логической незавершенности в рамках рассматриваемого периода. А наименее проявленными чертами городского образа жизни в повседневной жизнедеятельности горожан оказались пользование сферой услуг на фоне практически полного
Распределение красноярцев по шкале идентификаторов городского образа жизни, % к итогу
Данный расклад вполне согласуется с субъективными представлениями респондентов о городе и преимуществах жизни в нем. Основная мотивация переездов в город была связана именно с получением образования, профессии, более высокого социального статуса, благоустроенного, пусть и «казенного», жилья, высвобождением времени от хозяйственных дел для досуга.
Полученная применительно к красноярцам условная «шкала горожан» показала, что достаточно сформированный на конец рассматриваемого периода городской образ жизни был характерен лишь для 27 % жителей краевого центра.
На противоположном полюсе оказалось около 9 % тех, кто практически не вписывался в урбанизационную среду и культуру. Подавляющую же массу (почти 65 %) составили горожане, находящиеся на стадии формирования, именно они определяли лицо города, его специфическую среду.
Последующая обработка данных осуществлялась математическими методами, посредством создания информационных моделей. В качестве инструмента обработки данных использовалось несколько программ: нейроимитатор NeuroPro 0.25, нейронные сети Кохонена (Deductor Studio Academic 5.2). Дабы не перегружать статью специфической информацией описания методов компьютерной обработки нашей базы данных, сошлемся на опубликованные статьи и апробированные на конференциях результаты [Корчевская, Рафикова, 2011; Корчевская и др., 2011]. Здесь же сформулируем значимые для исследования выводы.
-
1. Создание информационных моделей городского образа жизни не только принципиально возможно, но и способно значительно обогатить историческую работу.
-
2. Реально создать такую модель чрезвычайно сложно, так как для этого необходимы богатый и разноплановый исходный материал, осуществление трудоемкой работы по его формализации, выбор эффективных программных продуктов, корректный ввод данных и интерпретация полученных результатов.
-
3. В конкретном случае информационная модель подтвердила высокое качество разработанной системы идентификаторов городского образа жизни и значимость всех входных параметров, позволила показать их влияние на выходные параметры и через исследование взаимосвязи установить тесноту связей всех факторов.
В результате была проведена успешная кластеризация (автоматическая классификация) респондентов, обоснована правомерность выделения трех подгрупп горожан относительно шкалы идентификаторов. Хотя информационная модель полярнее скорректировала их процентное соотношение (45,8 % – «истинные горожане», 19,7 – «формирующиеся горожане», 34,5 – «горожане – не горожане»), что можно интерпретировать через сопоставление со статистической моделью как несколько большее тяготение среднего сегмента к полюсу городских селян.
Модель предоставила возможность доказательной аргументации по принципиальным, но спорным и мало исследованным вопросам. Особый интерес представляет осмысление роли сельской миграции в формировании городской среды. Априори правомерно предположить, что наиболее адаптированы к урбанизированной среде и культуре были горожане в нескольких поколениях и рожденные в городах. Но это допущение не является аксиомой. Еще сложнее определить адаптированность к городу недавних его жителей, массово хлынувших в 1960-е гг. из сел. Далеко не всех из них городу удавалось ассимилировать, но и относить переселившихся в города сельчан «скопом» к маргинальным слоям представляется неправомерным.
Желание вырваться из деревни и закрепиться в городе являлось мощным побудительным мотивом получения среднего и высшего образования, «городской» профессии, своего жилья, что в сочетании с крестьянской хваткой и вливанием в студенческий или трудовой коллектив способствовало ускоренной адаптации. Иное дело – временные жители, приезжавшие из других регионов с целью заработать «длинный сибирский рубль» или из окрестных сел с целью получить профессию и вернуться на родину. Они составляли особую часть пришлых и, воспринимая город чаще всего как временное пристанище, в принципе не были нацелены на адаптацию. Но в целом, как показала модель, миграционный фактор не оказывал определяющего влияния на глубину интеграции в городскую повседневность. Как ни парадоксально, но динамизм 1960-х гг. облегчал процесс интеграции в урбанизированную среду горожан в первом поколении, поскольку им приходилось, по сути, «вместе и наравне» с коренными горожанами приспосабливаться к революционным переменам в повседневной жизни.
В целом учет многочисленных факторов идентификации и пробный опыт построения модели городского образа жизни позволяет утверждать, что фактическая численность городского населения была существенно меньше официальных статистических данных. Конечно, с точностью до процента определить границы условно выделенных групп городского населения невозможно, но полученные данные представляются вполне репрезентативными, хотя и отражают опережающий для своего времени результат. Во-первых, потому что характеризуют жителей одного из крупнейших региональных центров Сибири; во-вторых, построены на выборке, исключающей люмпенизированные низы.
Значительный отсев из числа горожан происходил за счет жителей малых городов, отдаленных от крупных административнокультурных центров провинциальных селений, молодых городов с сельской историей. Еще сложнее определить долю горожан в поселках городского типа, которые фактически занимают промежуточное положение между городами и селами. Интересные результаты были получены в ходе проведенных в Красноярском крае в конце 1990-х гг. обследований: 73 % жителей поселков и через 30 лет после окончания рассматриваемого периода посчитали себя сельскими жителями [Прохорчук, 2002. С. 9].
Слабость исторически сформировавшейся урбанизированной среды, отсутствие развитой сети городов и акселеративный рост имевшихся, затрудняли распространение городских стандартов жизни не только на окрестные территории, но и собственно на жителей городов. Экстраполируя результаты измерения по авторской шкале на всю совокупность городских жителей Сибирского региона, с учетом их пропорционального распределения по типам населенных пунктов, получим как минимум четверть городских жителей за рамками городского образа жизни. Они продолжали жить вне урбанистической культуры, в сельских условиях, деревенским сознанием и трудом. Продолжение исследований в данном направлении представляется перспективным и научно значимым для создания многомерной территориально-дифференцированной и социально-стратифицированной картины реальной жизни людей.
«THE SCALE OF THE IDENTIFIERS OF TOWNSPEOPLE» AS THE METHOD OF QUALITATIVE URBANISTIC STUDIES
Список литературы "Шкала идентификаторов горожан" как метод качественных урбанистических исследований
- Алексеев В. В., Исупов В. А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск: Наука, 1986. 232 с.
- Алисов Д. А. Урбанизация и культура//Городская культура Сибири: история и современность: Сб. науч. тр. Омск, 1997. С. 1-15.
- Борщевский М. В., Успенский С. В., Шкаратан О. И. Город: методологические проблемы комплексного социального и экономического планирования. М.: Наука, 1975. 204 с.
- Букин С. С., Исаев В. И. Урбанизация Сибири в ХХ веке: закономерности и особенности//Хозяйственное освоение Сибири в контексте отечественной и мировой истории: Сб. науч. тр. Новосибирск, 2005. С. 140-167.
- Виноградский В. Г. Городской образ жизни при социализме (Методологические проблемы). Саратов: Изд-во СГУ, 1977. 71 с.
- Воробьев В. В. Население Восточной Сибири. Современная динамика и вопросы прогнозирования. Новосибирск: Наука, 1977. 160 с.
- Глазычев В. Л. От сельской культуры к урбанизации//Культура в советском обществе. М., 1988. С. 36-46.
- Исаев В. И. Проблемы изучения истории становления индустриально-урбанистического общества в Сибири//Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история. 2010. № 1. С. 17-20.
- Исупов В. А. Городское население Сибири: от катастрофы к возрождению (конец 1930-х -конец 1950-х гг.). Новосибирск: Наука, 1991. 291 с.
- Исупов В. А., Московский A. C. Формирование городского населения Сибири (1926-1939 гг.). Новосибирск: Наука, 1984. 167 с.
- Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. М.: Госстатиздат, 1963. 455 с.
- Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. М.: Статистика, 1972. Т. 1. 175 с.
- Коган Л. Б. Урбанизация и городские процессы: сущность и задачи исследования//Социологические исследования проблем города и жилища. 1970-1980 гг. Новосибирск, 1986. С. 5-18.
- Коган Л. Б. Быть горожанами. М.: Мысль, 1990. 205 с.
- Корчевская О. В., Рафикова С. А. Исследование идентификаторов городского образа жизни красноярцев 60-х годов с помощью нейронных сетей с учителем//IX Всерос. конф. по теоретическим основам проектирования и разработки распределенных информационных систем (ПРИС-2011) (Красноярск, 10 июня 2011 г.). Красноярск, 2011. С. 58-60.
- Корчевская О. В., Рафикова С. А., Сельвенис Д. В., Пригодин О. В. Идентификация городского образа жизни красноярцев с помощью самоорганизующихся карт Кохонена//Прогрессивные технологии создания и использования цифровых образовательных ресурсов: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Красноярск, 26 декабря 2011 г.). Красноярск, 2011. С. 104-110.
- Куцев Г. Ф. Новые города (Социологический очерк на материалах Сибири). М.: Мысль, 1982. 269 с.
- Куцев Г. Ф. Формирование социальной инфраструктуры нового города//Проблемы развития новых городов в автономном районе освоения. Красноярск, 1981. С. 3-21.
- Лукьяненко В. И. Города, рожденные волей партии. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. 300 с.
- Малинин Е. Д., Ушаков А. К. Население Сибири. М.: Статистика, 1976. 163 с.
- Методологические проблемы изучения социалистического образа жизни. Красноярск: КрасГУ, 1977. 146 с.
- Население Западной Сибири в XX в. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. 172 с.
- Пароль В. И. Социалистический город: урбанизационный процесс и образ жизни горожан. Таллин: Валгус, 1982. Ч. 1. 171 с.
- Перцик E. H. Город в Сибири: проблемы, опыт, поиск решений. М.: Мысль, 1980. 286 с.
- Проблемы социального развития новых городов в автономном районе освоения. Красноярск: КрасГУ, 1981. 183 с.
- Пивоваров Ю. Л. Основы геоурбанистики: урбанизация и городские системы. Учеб. пособие для вузов. М.: ВЛАДОС, 1999. 231 с.
- Прохорчук М. В. Поселки городского типа: проблемы и пути развития (на примере Красноярского края): Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Красноярск, 2002. 22 с.
- Рафикова С. А. Народные мемуары как источник по истории советской повседневности//Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история. 2009. № 2. С. 74-78.
- Рафикова С. А. Проблема идентификации горожан Красноярского края в 1960-е годы//Становление индустриально-урбанистического общества в Урало-Сибирском регионе: подходы, исследования, результаты: Материалы межрегион. науч. конф. Новосибирск, 2010. С. 205-214.
- Рафикова С. А. Сибирские горожане шестидесятых: социодемографический портрет//Региональные аспекты цивилизационного развития российского общества в XX столетии: проблемы урбанизации и индустриализации: Материалы межрегион. науч. конф. Новосибирск, 2013. С. 318-330.
- Урбанизация Советской Сибири. Новосибирск: Наука, 1987. 222 с.