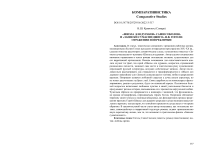"Школа для дураков" Саши Соколова и "Записки сумасшедшего" Н.В. Гоголя: отражения и переклички
Автор: Кривонос Владислав Шаевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье, тематически связанной с прежними работами автора, посвященными бытию Гоголя в русском литературном пространстве XIX-XX вв., сделана попытка рассмотреть семантические следы, оставленные повестью «Записки сумасшедшего» в романе «Школа для дураков». Автор уделяет специальное внимание отражениям в тексте романа гоголевских мотивов, существенных для его нарративной организации. Веским основанием для сопоставительного анализа служит тот факт, что герой «Школы для дураков», подросток, страдающий раздвоением личности, занимает свое место в генетическом ряду сумасшедших персонажей русской литературы, ведущих собственные записки. Автор последовательно рассматривает, как отражаются и трансформируются в «Школе для дураков» важнейшие для «Записок сумасшедшего» мотивы любви и разрушения времени. Поприщин захвачен любовной страстью к дочке своего директора, но не может рассчитывать на брак с ней. Свою ущербность он компенсирует фантазированием, решив в результате, будто он испанский король. Психически больной подросток испытывает любовное чувство к своей учительнице биологии и придумывает разные истории, связывающие его с предметом виртуальной любви. Чудесным образом он превращается в инженера с машиной, что функционально сродни метаморфозам, переживаемым героем Гоголя. Поприщин обозначает перемену своего статуса с помощью абсурдных дат, фиксирующих процесс разрушения времени. Герой «Школы для дураков» разрушает существующие представления о времени, так как верит, что линейного времени не существует и что время обратимо. В заключительной части статьи автор показывает, как гоголевские мотивы, взаимодействуя в нарративной структуре романа, задают принципиально иную перспективу жизни, чем та, что возникает в трагическом финале «Записок сумасшедшего».
Гоголь, саша соколов, повесть, роман, повествование, мотив, любовь, время
Короткий адрес: https://sciup.org/149141339
IDR: 149141339 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-357
Текст научной статьи "Школа для дураков" Саши Соколова и "Записки сумасшедшего" Н.В. Гоголя: отражения и переклички
В литературе, посвященной роману Саши Соколова, были отмечены пересечения с гоголевской повестью, оставшиеся, правда, без развернутого анализа, но давшие основание считать ее одним из литературных источников «Школы для дураков» (см.: [Азеева 2015, 96-98]). В предлагаемой статье, продолжающей предпринятое нами исследование разнообразных связей Гоголя с произведениями других русских писателей [Кривонос 2021], сделана попытка более подробно рассмотреть семантические следы, оставленными «Записками сумасшедшего» в «Школе для дураков», обратив внимание на отражения в тексте романа существенных для его нарративной организации мотивов. Дело идет не о прямом влиянии, которое могло бы стимулировать отсылки к тексту предшественника, а о действии «объективной, сверхличной литературной памяти» [Бочаров 1999, 9], породившей переклички одного произведения с другим, его явное или скрытое цитирование.
Роман Саши Соколова, опубликованный в 1975 г, стоит, как давно было замечено, у истоков русского постмодернизма; как и полагается постмодернистскому тексту, он «не скрывает своей цитатной природы, оперируя уже известными эстетическими языками и моделями» [Лейдерман, Липо-вецкий 2003, 375]. Герой «Школы для дураков», психически нездоровый подросток, страдающий раздвоением личности, встраивается в генетический ряд сумасшедших персонажей русской литературы. И не просто сумасшедших, но ведущих, как гоголевский Поприщин, свои записки, раскрывающие разного рода аномалии в сфере представлений и воображения. При этом история героя романа, ученика спецшколы для детей с умственной отсталостью, как и история безумного героя повести Гоголя, выходит за границы медицинского случая и не сводится к патологиям психики.
Посмотрим сначала, как отражается в «Школе для дураков» важнейший для «Записок сумасшедшего» мотив любви, как он преломляется и трансформируется в постмодернистском повествовании.
Поприщиным, мелким и бедным чиновником, облаченным в «шинель очень запачканную и притом старого фасона», владеет любовная страсть к дочке своего директора, от одного вида которой, как она «мелькнула своими бровями и глазами», он чувствует, что «пропал совсем» [Гоголь 1938, 194]. Когда же она вошла в кабинет, где он чинил перья для начальника и читал «Пчелку», то, пораженный исходящим от нее сиянием («солнце, ей богу, солнце»), хотел, хоть и не решился («как-то язык не поворотился»), попросить казнить его своей «генеральскою ручкою» [Гоголь 1938, 196-197]. Верно было замечено по поводу его реакций: «Поприщин не называет свое чувство прямо, он прибегает к косвенным обозначениям, передавая свое восприятие генеральской дочки и то воздействие, которое она на него оказывает» [Ревзина 2009, 67]. Но чувство его не остается незамеченным для окружающих, так что начальник отделения вынужден прочитать ему нотацию насчет его «проказ», напомнив, что он «нуль, более ничего» и что у него «ни гроша за душой», а вздумал волочиться «за директорскую дочерью» [Гоголь 1938, 197-198].
Под влиянием неудовлетворенной страсти к её превосходительству у Поприщина, сознающего свою социальную ущербность и испытывающего в связи с этим разрушающий его психику комплекс неполноценности, возникает безумная идея об изначальной принадлежности к чужому для него миру, где обитает директор и его дочка, который на самом деле, как он пытается представить себе, является для него своим. Острой проблемой становится для него фиктивность его знакового существования: «Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков» [Гоголь 1938, 206]. Неопределенность своего знакового статуса Поприщин компенсирует безудержным фантазированием, примеривая различные знаковые маски и выдавая себя за кого-то другого, превратившись в результате в отсутствующего на испанском троне короля. Убедив себя в этом, тем более что «с недавнего времени» уже начал «слышать и видеть такие вещи, которых еще никто не видывал и не слыхивал» [Гоголь 1938, 195], и отправившись «в директорскую квартиру», он «прямо пробрался в уборную» дочки, чтобы сообщить, что «счастие ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может, и что, несмотря на козни неприятелей», они будут «вместе» [Гоголь 1938, 209].
Герой «Школы для дураков» захвачен любовным чувством к Вете Аркадьевне, учительнице биологии и дочери академика Акатова, но сюжет их отношений развивается исключительно в сфере его воображения. Предаваясь фантазиям, похожим на эротический бред, в которых находит выражение подростковая гиперсексуальность, он выдумывает «фантастические истории» [Руднев 2007, 446], связывающие его с предметом виртуальной любви, «загадочной женщиной Ветой» [Соколов 1990, 58], и легко преодолевает разделяющую их дистанцию, как возрастную и социальную, так и пространственную. Мысленно он перелезает через забор и, оказавшись перед ее окном, которое светится в мансарде особняка, шепчет: «Вета Вета Вета это я ученик специальной школы такой-то отзовись я люблю тебя» [Соколов 1990, 59] [здесь и далее авторская пунктуация сохранена - В.К.].
Игра воображения позволяет герою замаскировать чувство собственной неполноценности, питаемое низким социальным статусом, и компенсировать зависимость от отношения к нему в окружающем мире. В виртуальном мире, в который он погружен, герой «давно закончил спецшколу, институт и стал инженером», копит «деньги на машину - нет, уже купил, накопил и купил» [Соколов 1990, 83]. Он не подражает взрослым, чтобы идентифицировать себя с ними, что свойственно подросткам, но предстает, чудесным образом повзрослев, уже инженером, представителем массовой профессии, причем с машиной, мечтой всякого инженера, что функционально сродни метаморфозам, переживаемым Поприщиным, видящим себя «в генеральском мундире», с эполетами на правом и на левом плече, «через плечо голубая лента», приближающим мечту о браке с директорской дочкой: «как тогда запоет красавица моя? что скажет и сам папа, директор наш?» [Гоголь 1938, 206].
Новоявленный испанский король не считает себя безумцем; «сумасбродной» кажется ему теперь «мысль», что он мог быть «титулярным советником» [Гоголь 1938, 207] и даже считал себя таковым. Напротив, герой Соколова не питает иллюзий насчет своего психического состояния; своему двойнику, называющему его «сумасшедшим», он отвечает, что тот «сам точно такой же сумасшедший», потому что «я - это ты сам» [Соколов 1990, 66]. В гротескной реальности, изображенной в «Записках сумасшедшего», невероятные события воспринимаются как возможные, потому что устроена она так, что «все “может быть”» [Лотман 1996, 12]. Их можно объяснить бредом героя (так он видит происходящее, принимая собственный вымысел за действительность), но именно такого рода события, включая фантастические метаморфозы, для гротескной реальности и характерны. Что касается виртуальной реальности, куда перемещается из внешнего мира ученик школы для дураков, для него одновременно возможной и существующей (где он собственно и обитает), то она вообще не поддается сколько-нибудь достоверному описанию, в которое могли бы поверить окружающие, так как сутью ее оказываются именно трансформации и превращения, не требующие правдоподобного объяснения. И сам герой не может не верить в свои фантазии, поскольку какие-либо границы для игры воображения отсутствуют. И антропология тут другая, соответствующая специфике виртуальной реальности.
Герой ведет себя так, будто он действительно «стал инженером, и машина ждет» его, и мать готова поверить, что «сын уже инженер», о чем он не сообщал раньше, чтоб для нее это было «приятным сюрпризом», хотя, успокоившись, она недоумевает, откуда у него «вообще деньги» на машину и «разве можно быть инженером и школьником одновременно» [Соколов 1990, 85]. Но вопрос, зачем он обманывает ее, остается без ответа, поскольку раздается из другого мира, где утверждающий подобное действительно кажется обманщиком. В виртуальной же реальности сын ее не только «давно инженер», но и, прочитав много книг, «стал очень умным» и даже сильно изменился внешне, теперь он «высокого роста», «широк в плечах, а лицом почти красив», у него «прямой нос, синие глаза с поволокой, упрямый волевой подбородок и крепко сжатые губы»; дело в том, что здесь он такой же виртуальный персонаж, как все перенесенные им туда из реального мира знакомые, как Вета Аркадьевна, его учительница, в которую он влюблен и, наделенный такой неотразимой внешностью, едет «прямо к ее дому», придумывая по дороге, чтобы попросить у матери деньги на хризантемы, будто «умерла девочка» из его класса и требуется «собрать на венок этой девочке» [Соколов 1990, 84].
Поприщину кажется, что директор его «особенно любит» [Гоголь 1938, 196], пусть и не удостаивает общения; правда, хотелось бы узнать, что тот «обсуживает» у себя «в голове», какие «придворные штуки», однако самому «завести разговор с его пр-вом» не удается, «язык никак не слушается» [Гоголь 1938, 199]. Но невозможно представить, чтобы титулярный советник заговорил с ним о чувствах к его дочери. Зато академик Акатов, отец Веты, с подростком, влюбленным в его дочь, которому «на вид не дашь и шестнадцати», хотя тот утверждает, что ему «давно за двадцать», ему «тридцать», он носит «шляпу и трость» [Соколов 1990, 112], беседует «по-свойски» и не настаивает на ответе, «в какой же школе» тот обучается, на чем она «специализируется», хотя герой не считает нужным это скрывать и отвечает, что школа «специализируется на дефективных, это школа для дураков, мы все, которые там учатся, - ненормальные, каждый по-своему» [Соколов 1990, 117].
Узнав из переписки собак, какую партию прочит для своей дочери директор, Поприщин негодует, что все «срывает» у него «камер-юнкер или генерал» [Гоголь 1938, 205]. Развертывание сюжета гоголевской повести исключает счастливую развязку и свадьбу как финальный мотивный ход. Герой Соколова, общаясь с отцом Веты и только что поведав о собственной ненормальности, сообщает, что любит его дочь и «намерен жениться на Вете Аркадьевне» [Соколов 1990, 118]. Мысленно он уже отправляется с ней в «свадебное путешествие» [Соколов 1990, 129], а виртуальный ака- демик интересуется только, «на какие средства» тот в случае ее согласия на брак «собирается существовать» [Соколов 1990, 169]. И получает объяснение, что «юноша», как он называет потенциального жениха, закончив «в скором будущем» спецшколу, «тут же» поступает в одно из инженерных заведений и «быстро, если не сказать - стремглав», становится инженером и покупает «машину и прочее», даже не инженером, а биологом, коллегой академика и его дочери, будущим обладателем «академической премии» [Соколов 1990, 170]. Автору, готовому прервать повествование, герой говорит, что «мог бы» еще рассказать об их «с Ветой Аркадьевной свадьбе» и «большом с ней счастье» [Соколов 1990, 183]. В виртуальном мире нет ничего невозможного, а потому отсутствуют и какие-либо преграды для женитьбы, следовательно, и для иного, чем в гоголевской повести, развития мотива любви.
В романе Саши Соколова границы личности героя размыты; от одной невероятной истории он легко переходит к другой, а превращения, с ним происходящие, не кажутся ему фантастическими; в той реальности, в которой он пребывает, фантастическими они действительно не выглядят. Это подчеркнуто актуализацией в «Школе для дураков» мотива разрушения времени, играющего важную роль в «Записках сумасшедшего»; как и мотив любви, с которым этот мотив тесно сплетается и переплетается, он оказывается весьма значимым для нарративной организации романа.
В повести Гоголя радикальная перемена знакового статуса Поприщина связана со столь же радикальным изменением датировки им своих записей. Абсурдные даты, отражая развитие безумия героя и обозначая вместе с тем и ход времени в гротескной реальности, всякий раз заново маркируют ее хронологические границы. Свое превращение в испанского короля он как раз и отмечает подобными датами, начиная с даты «Год 2000 апреля 43 числа» [Гоголь 193 8, 207]. С занятием им самого высокого, в его представлении, места в социальной иерархии устанавливается иное летоисчисление; даты наделяются сакральным смыслом, выражающим приобретенное им звание монарха. На произошедшую с ним перемену указывает не только изменившаяся датировка, но и внезапное исчезновение времени: «День был без числа» [Гоголь 1938, 210]. Отсутствие даты подчеркивает свойственную реальности, в которой он теперь обретается, мнимость; утратив линейность, время начинает течь в неизвестном направлении, то полностью исчезая, то вновь появляясь. В записях может отсутствовать не только число, но и месяц, которого «тоже не было» [Гоголь 1938, 210]; если же месяц появляется, то, в нарушение календарной последовательности, январь случается «после февраля» [Гоголь 1938, 212]. Наконец, пережив разные превращения, время разрушается окончательно и бесповоротно: «Чи 34 ело Мц гдао. Февраль 349» [Гоголь 1938, 214].
Все эти метаморфозы времени, фиксирующие процесс его разрушения и отражая нарастающее безумие героя, указывают, что Поприщин не выпадает из истории, как могло бы показаться, но, напротив, вписывает себя в нее -вписывает таким единственно возможным для него сумасшедшим способом. Так испанский король пытается определить и занять в ней место, соответствующее его представлению о себе как о человеке историческом.
В «Школе для дураков» гоголевский мотив разрушения времени подвергается трансформации и существенно переосмысляется. Было замечено: «Доминирующая в романе тема - бегство из истории в субъективное время, замена истории личной хронологией» [Генис 1993, 16]. Отметим только, что герой Соколова не понимает, что такое вообще время, не только время историческое или субъективное, и не знает, существует ли оно: «Я из осторожности употребил здесь два слова: былииявляемся, что означает есть, поскольку - хотя врачи утверждают будто я давно выздоровел - до сих пор не могу с точностью и определенно судить ни о чем таком, что хоть в малейшей степени связано с понятием время. Мне представляется, у нас с ним, со временем, какая-то неразбериха, путаница, все не столь хорошо, как могло бы быть. Наши календари слишком условны и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за первым января следует второе, а не сразу двадцать восьмое. Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда - череда дней. Никакой череды нет, дни приходят когда какому вздумается, а бывает, что и несколько сразу. А бывает, что день долго не приходит. Тогда живешь в пустоте, ничего не понимаешь и сильно болеешь» [Соколов 1990, 27].
Ученик школы для дураков не чувствует свою причастность к истории, события которой протекают в разное время, и не ощущает себя существом историческим, живущим во времени, в существовании которого сомневается. Его рассуждения о времени, с которым у него сопрягаются представления о неразберихе и путанице, «непосредственно связывают психологическую дезориентацию персонажа с мифологически образом вечности» [Липовецкий 1997, 201]. Будучи ненормальным, чего не скрывает ни от академика Акатова, ни от самого себя, он по-своему, в меру своего психического состояния, сопротивляется ходу истории, отрицая какой-либо смысл в странной череде дней, бунтует против истории как таковой и упраздняет ее, оказавшись в пустоте, где никакого времени нет, не подозревая, что ведет себя как носитель архаического сознания (см.: [Элиаде 1998, 232-233]).
Время неизбежно разрушается еще и потому, что никто, как утверждает герой, не может дать определения года, месяца, века, календаря и собственно времени, хотя слова такие произносят и употребляют, не понимая, что они означают; никто не может объяснить, «что мы разумеем, рассуждая о времени, спрягая глагол е с т ь и разлагая жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано: завтра - это лишь другое имя сегодня» [Соколов 1990, 28]. Разрушение и линейного времени, и времени вообще, совершаемое героем, отражает проблематичность его собственной личности, лишенной индивидуальных границ и претерпевающей различные метаморфозы, лег- ко меняющей форму, возраст и внешний облик. Исчезнув, время оставляет пустоту, заполнение которой днями, по его наблюдениям, происходит совсем не в том порядке, какой предписан календарем, а движение времени, заново возобновляющееся, разворачивается не в том направлении, какое предполагает его линейная модель.
Из статьи «одного философа», высказавшего дискуссионное мнение о свойствах времени, прочитавший ее герой узнал, что «время имеет обратный счет, то есть, движется не в ту сторону, в какую, как мы полагаем, оно должно двигаться, а в обратную, назад, поэтому все, что было - это все еще только будет, мол, истинное будущее - это прошлое, а то, что мы называем будущим - то уже прошло и никогда не повторится» [Соколов 1990, 104]. Следовательно, время не может окончательно разрушиться, но обладает способностью к возрождению, причем в качестве другого времени, не повторяющегося, когда прошлое превращается в будущее.
Поверив, что время обратимо, герой задумывается, какие последствия имеет это важное для его картины мира открытие: «И еще я подумал: но если время стремится вспять, значит все нормально, следовательно Савл, который как раз умер к тому времени, когда я читал статью, следовательно Савл еще б у д е т, то есть придет, вернется - он весь впереди» [Соколов 1990, 105]. Он и сам создает в повествовании «обратное течение времени» и «преодолевает смерть» [Генис 1993, 14], так что Савл Петрович, его покойный учитель, действительно возвращается и отвечает на задаваемые ему вопросы. В виртуальной реальности, существующей в измененном сознании ученика спецшколы, где время, как в «мифологическом универсуме», движется по кругу, нет и не может быть ничего окончательного, так что и смерть здесь «не окончательна» [Лейдерман, Липовецкий 2003, 404].
Но когда же случилась свадьба с Ветой, о которой герой собирается рассказать автору, решившему закончить книгу, сомневаясь, правда, что тот поверит ему, но автору событие «представляется вполне достоверным» [Соколов 1990, 183]? Если свадьба была, то она еще только будет, потому что будущее, как думает герой, это прошлое, а раз он уже соединился с той, которую любит, то уже не разлучится с ней никогда. Так мотивы любви и разрушения времени, взаимодействуя в нарративной структуре романа и перекликаясь с соответствующими гоголевскими мотивами, задают принципиально иную перспективу жизни, чем та, что возникает в трагическом финале «Записок сумасшедшего».
Список литературы "Школа для дураков" Саши Соколова и "Записки сумасшедшего" Н.В. Гоголя: отражения и переклички
- Азеева И.В. Саша Соколов «Школа для дураков»: опыт интерпретации игрового текста. Ярославль: Ярославский государственный театральный институт, 2015. 140 с.
- Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. 632 с.
- Генис А. Уроки школы для дураков: о романе С. Соколова «Школа для дураков». Литературное обозрение. 1993. № 1/2. С. 13-16.
- Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. III. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1938. 725 с.
- Кривонос В.Ш. Гоголь в русском литературном пространстве Х1Х-ХХ веков: монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФЛИНТА, 2021. 272 с.
- Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: В 2 т. Т. 2: 1960-1990. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 688 с.
- Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм: очерки исторической поэтики. Екатеринбург: УГПУ 1997. 317 с.
- Лотман Ю. О «реализме» Гоголя // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. II (Новая серия). Тарту, 1996. С. 11-35.
- Ревзина О. «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя // Europa Orientalis. 2012. Vol. 31. C. 57-99.
- Руднев В.П. Философия языка и семиотика безумия: Избранные работы. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. 528 с.
- Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком. М.: Огонек-Вариант, 1990. 380 с.
- Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость / пер. c фр. СПб.: Алетейя, 1998. 249 с.