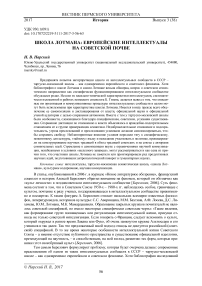Школа Лотмана: европейские интеллектуалы на советской почве
Автор: Нарский И.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Интеллектуалы: корпоративные практики и символические репрезентации
Статья в выпуске: 3 (38), 2017 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка интерпретации одного из интеллектуальных сообществ в СССР -тартуско-московской школы - как одновременно европейского и советского феномена. Хотя библиография о школе Лотмана и самом Лотмане весьма обширна, вопрос о советском семиотическом направлении как специфически функционировавшем интеллектуальном сообществе обсуждался редко. Исходя из идеально-типической характеристики интеллектуалов, систематически изложенной в работах немецкого социолога Б. Гизена, делается вывод о том, что описанные им организация и коммуникативные процедуры интеллектуальных сообществ в целом могут быть использованы при характеристике школы Лотмана. Имеется в виду прежде всего обеспечение ее самоизоляции и дистанцирования от власти, официальной науки и официальной ученой аудитории с целью сохранения автономии. Вместе с тем у тартуско-московской школы были особенности, сложившиеся благодаря специфическим, советским, условиям существования. Сохранение дистанции по отношению к власти объяснялось и враждебно -подозрительным отношением ее к группе приверженцев семиотики. Недоброжелательное отношение и подозрительность, угроза преследований и преследования усиливали желание самоизолироваться, чтобы сохранить свободу. Неблагоприятные внешние условия породили тягу к специфическому, непонятному для цензуры, «тайному» языку и нежелание участвовать в политике, провоцировали на конструирование научных традиций в обход традиций советских и на союзы с авторами сомнительных идей. Стремление к самоизоляции вкупе с ограничениями научной коммуникации, неизбежными в условиях «железного занавеса», могут рассматриваться и как одна из причин того, что участники школы Лотмана не заметили или проигнорировали ряд продуктивных научных идей, подготовивших антропологический поворот в гуманитарных науках.
Интеллектуалы, тартуско-московская семиотическая школа, "школа лот-мана", культурное кодирование, научная коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/147203818
IDR: 147203818 | УДК: 930.1(091) | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-3-56-63
Текст научной статьи Школа Лотмана: европейские интеллектуалы на советской почве
В статье, опубликованной в 2006 г. в журнале «Новое литературное обозрение», французский социолог и историк Алексей Берелович обратил внимание на феномен, который он обозначил как «культ личности» в позднесоветском интеллектуальном сообществе [ Берелович, 2006]. Суть феномена состоит в том, что в Советском Союзе 1950-х – 1980-х гг. наблюдалось особое, граничащее с культом, почтение к ряду ученых, поддерживавшееся в интеллектуальном сообществе прижизненно и посмертно. К таким фигурам А. Берелович относит нескольких всемирно известных философов, литературоведов, историков культуры: С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, М.К. Мамардашвили. Образование закрытых кружков почитателей не являлось советской спецификой, но имело некоторые специфически советские черты: «Такие явления, как формирование групп посвященных или ритуализация интеллектуальной жизни, присущи отнюдь не только советской интеллигенции. Если говорить о Франции, следует вспомнить о культе, который окружал в разное время Лакана или Фуко, об очень замкнутом кружке Альтюссера и его учеников и так далее. Так что предложенный мной подход отнюдь не диктуется российской (советской) спецификой. В то же время некоторые особенности интеллектуальной жизни Советского Союза – а именно отсутствие публичного пространства и существование официальной идеологии, претендующей на научность, – и способствовали, на мой взгляд, развитию тех форм, которые принимал этот своеобразный культ» [ Берелович, 2006].
Тем самым Берелович формулирует проблему, которая будет очерчена дальше: современные представления об одном из таких интеллектуальных сообществ в СССР – тартуско-московской школе – как одновременно европейском и советском феномене. Хотя библиография исследований
о школе Лотмана и самом Лотмане весьма обширна, вопрос о советском семиотическом направлении как специфически функционировавшем интеллектуальном сообществе обсуждался редко [ Егоров, 1999; Кван, 2003; Waldstein, 2008]. Это объясняется отчасти и определенным А. Береловичем «культом личности» ряда советских ученых-гуманитариев, препятствующим его изучению с критической дистанции [ Жлоковский, 1998; Зенкин, 2006; Живов, 2009]. В статье речь пойдет, таким образом, не об истории московско-тартуской семиотики и не о летних школах в Эстонии 1960-х – 1970-х гг., а лишь об одной весьма специфической проблеме – о европейски универсальном и по-советски уникальном в функционировании одной из наиболее известных интеллектуальных групп в позднем СССР.
Интеллектуалы – жалующиеся герои
Насколько же школа Лотмана была феноменом европейского интеллектуализма? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, кажется целесообразным сконструировать некие идеальнотипические ориентиры для сопоставительного анализа. А для этого – обратиться к современным социологическим представлениям об интеллектуалах, их функциях и месте в европейских обществах.
При решении обозначенной задачи имеет смысл опустить тонкие концептуальные различия, сложившиеся в рамках социологии знания, и сосредоточиться на типичных чертах интеллектуалов, систематически изложенных в исследованиях немецкого социолога Бернхарда Гизена, которому принадлежит плодотворная попытка развития, в частности, переформулирования, социологии знания интеллектуалов [ Giesen, 1993, 1999]. Прежде всего он рассматривает интеллектуалов как сугубо европейское явление и определяет их как «критически рефлексирующую группу в напряженном противостоянии политической элите» [ Giesen, 1993, S. 68]. Это определение интеллектуалов не соответствует смыслу обыденных словоупотреблений термина. Такие показатели, как высокий IQ, образовательный статус, уровень эрудиции, обладание экспертным знанием, не входят в перечень непременных характеристик интеллектуалов. Согласно концепции Гизена, интеллектуалы представляют собой дискурсивные сообщества, претендующие на миссию конструирования коллективного прошлого, настоящего и будущего, т.е. производства коллективных идентичностей – национальных, классовых, гендерных и пр. Следует подчеркнуть, что интеллектуалы воспринимают себя в качестве носителей, хранителей и глашатаев «священного» знания о перспективах развития общества (будь то, например, идеологии национализма или футурология бесклассового общества), лежащего, как правило, за пределами их профессиональной компетенции. Кроме названного в число характерных черт европейских интеллектуалов следует включить двойственное отношение к государству и обществу, сочетавшее дистанцирование и стремление к преодолению дистанции, а также поддержание самоизоляции собственной группы.
Б. Гизен рассматривает группы интеллектуалов – конструкторов национальной идентичности – на примере немцев XIX – начала ХХ в. С некоторой дистанции от окружающего общества, нередко отражающей (и определяющей) их изоляцию и социальную «беспочвенность», они создавали образы народа и нации, предполагающие ощущение единства и целостности в условиях неуверенности и ненадежности, порождаемых современностью. Возникшие первоначально и циркулировавшие в узких интеллектуальных кружках (фаза А национального движения в терминологии М. Гроха [ Hroch , 1968]), их концепции популяризировались в обществе в упрощенной форме, что заставляло следующее поколение интеллектуалов дистанцироваться от тривиализации и вновь конструировать новые проекты национальной идентичности.
Различая несколько типов кодирования, с помощью которого конструируется общность, Б. Гизен особое внимание уделяет культурному кодированию как главному оружию интеллектуалов как дискурсивного сообщества. Именно культурное кодирование создает иерархии и приписывает свойства, «конструирует границы с помощью особой привязанности к неизменной и вечной области священного и возвышенного – все равно, определяются ли они как бог или разум, прогресс и рациональность» [ Giesen, 1993, S. 60].
По мере увеличения и усложнения социума культурное кодирование может приобретать агрессивные черты. В растущем сообществе культурное кодирование «открывает границы практике завоевания, миссии и педагогики. Эта переориентация культурного кода обосновывает коллективную идентичность как всеохватную и универсально действующую <…> Миссионерский пыл культурно конструируемых общностей не просто открывает границы, чтобы впустить посторон- них, а сам побуждает преодолевать границы и различия: тот, кто оказывает сопротивление культурной миссии, не просто чужд и несовершенен, но и неправилен и не такой. Так как он не осознает своей истинной идентичности, в крайних случаях его можно обратить на верный путь против его собственной воли. Аутсайдеры рассматриваются в таком случае как пустые, “естественные” объекты, которые могут добиться идентичности и статуса субъекта с помощью усвоения культуры» [Giesen, 1993, S. 62–63].
Конструирование сплоченного общества за счет определения его внешних границ, однако, недостаточно для того, чтобы закрепить за интеллектуалами статус его политических или моральных учителей. В этой связи интеллектуалы обречены создавать границы не только внешние, но и внутренние, оперируя инструментом приписывания культурных различий. Единство и специфика интеллектуалов как социальной группы поддерживаются особыми институциональными механизмами – сложными процедурами образования и внутренних дебатов, которые затрудняют приток в группу (и выход из нее). Формы коммуникаций интеллектуалов многообразны – от монастырского толкования священных текстов и академических диспутов до общения в салоне и общественной полемики. «Лишь немногие избранные, виртуозы, принявшие на себя все испытания и посвятившие себя полностью и без остатка служению возвышенному и священному, могут в конце концов вступить во внутренний круг и лицезреть святыни» [ Giesen, 1993, S. 64].
Культурное кодирование – это вопрос о приобретении и сохранении власти. Поэтому для интеллектуалов проблема отношений с официальными политическими элитами представляется жизненно важной ( Giesen, 1993, S. 71). Из амбивалентности задач рождается противоречивость отношений интеллектуалов с государством. Им приходится балансировать между безоговорочной кооперацией с власть имущими и радикальной оппозицией им, чтобы сберечь свою особость. «Как радикальное несогласие, так и полное сближение следует, впрочем, считать крайностями. Как правило, то обстоятельство, что политическая элита никогда не бывает абсолютно гомогенной и властные конфликты нельзя устранить надолго, дает шансы сложным и ограниченным коалициям между интеллектуалами, с одной стороны, и фракциям политической элиты – с другой» ( Giesen, 1993, S. 72–73).
Впрочем, двойственностью отмечены отношения интеллектуалов не только к государству, но и к собственной аудитории, к которой апеллирует интеллектуальное сообщество: «С одной стороны, интеллектуалы жалуются на непонимание публики, которая не разбирается или недостаточно разбирается в их толкованиях, или вовсе отклоняет их. С другой стороны, именно это неприятие создает то типичное напряжение, которое можно воспринимать как интерпретационное преимущество интеллектуального авангарда» [ Giesen, 1993, S. 74]. Именно эта специфика в отношении европейских интеллектуалов к своей публике позволила Вольфу Лепениесу определить их как «жалующийся класс» [ Lepenies , 1992, S. 300].
Следует подчеркнуть, что во имя обоснования своего исключительного положения интеллектуалы вынуждены держаться в стороне от практических интересов и, тем самым, сосредоточиваться на общих проблемах, отказываться от ответственности за частности, декларируя, вместе с тем, готовность взять на себя ответственность за общность в целом. Следствием такого положения является то, что они редко имеют практический доступ к тому, что интерпретируют. Конструируя и иерархизируя общество, интеллектуалы одновременно выстраивают собственную маргинальность и изолированность: «Интеллектуалы должны изолировать себя не только от других социальных групп, но и от мирских потребностей ситуации и воспроизводить свое “свободно парящее” положение, чтобы приблизиться к описанию социального всеобщего» [ Giesen, 1993, S. 85].
Школа Лотмана – сообщество интеллектуалов?
Насколько предложенное описание интеллектуалов может быть полезным для понимания феномена тартуско-московской семиотической школы? С точки зрения содержания ее деятельности школу Лотмана затруднительно интерпретировать в категориях интеллектуализма в гизенов-ской версии. Приверженцы семиотики в СССР не занимались конструированием больших социальных идентичностей и были строгими профессионалами. Профессионализм был их знаменем, «настоящая», чистая от идеологических примесей наука и соответствующий ей язык – целью и инструментом деятельности. Наука и советская идеология были для них несовместимы: «к концу советского периода в гуманитарных науках профессиональная компетентность и искреннее испове- дание официальной доктрины были не просто едва совместимы, но почти полярно противоположны друг другу» [Берелович, 2006].
Приверженцы школы Лотмана были увлечены не производством идеологий, а их дешифровкой и культурным анализом. Вместе с тем сама семиотика, особенно на ранних этапах знакомства с ней, была для них своего рода символом веры: они были убеждены во владении «священным» универсальным знанием, открывающим перед наукой беспрецедентные перспективы. И не только перед наукой. Ранняя советская семиотика сама имела идеологический оттенок, поскольку противопоставляла «подлинную» науку официальной «лженауке»: «Семиотика с ее установкой на всеобщее и объективное выглядит странным участником шестидесятнического карнавала. Однако сама тотальность ранней семиотики, с полной бескомпромиссностью рассекавшая традиционные границы между областями знания, идеями и методами, служила иконокластическим отрицанием официозно-традиционалистской науки, укорененной в национальных академических традициях и институциях – будь то советский, или французский, или американский академический establishment» [ Гаспаров , 1998, с. 218].
Поскольку это знание было междисциплинарным, его носители стремились раздвинуть пределы своей узкой профессиональной компетенции. Математики увлекались лингвистикой и историей, лингвисты – литературоведением и этнологией, литературоведы – кибернетикой и нейрофизиологией. В этом участники тартуско-московской школы близки к интеллектуалам Гизена – носителям знания, лежащего за пределами профессиональной компетенции.
В описанной Б. Гизеном организации и коммуникативных процедурах интеллектуальных сообществ обнаруживаются характеристики, в еще большей степени пригодные для описания школы Лотмана. Особенно это касается обеспечения самоизоляции и дистанциирования от власти, официальной науки и официальной ученой аудитории с целью сохранения своей автономии. «Полное отвержение и игнорирование советских научных условностей и приличий» [ Левин , 1998, с. 310] нашло отражение в деятельности участников тартуско-московского направления. Упомянутый ранее научный иконоклазм запечатлелся в стиле многих публикаций 1960-х гг., авторы которых традиционному советскому цитированию классиков марксизма-ленинизма, советских вождей и решений коммунистической партии предпочитали разбор произведений опальных деятелей литературы и искусства и ссылки на зарубежную литературу.
Научная коммуникация приверженцев тартуско-московской семиотики также выстраивалась на принципиально иных основаниях, чем в официальной советской университетской среде. Участники летних школ в Эстонии единодушно отмечали царившую там атмосферу равноправия, доброжелательности и свободы, которая контрастировала с характерными для «нормального» советского университета зависимостью от государства и дефицитом свободы преподавания и учебы, коллективизмом и строгой иерархией жизни студенческой группы и университетской кафедры, патриархальными отношениями между преподавателями и студентами, школярскими методиками преподавания и незнанием состояния международной науки, игнорированием новинок в области методологии и незнанием иностранных языков [ Wulff , 2004, S. 886–893].
Организация научных форумов также принципиально отличалась от официальных практик. Индивидуальное приглашение по личным каналам вместо широкого оповещения, ограничение состава участников вместо организационной гигантомании, свободная дискуссия вместо заорганизованных пленарных докладах и секционных заседаний, специфический язык общения вместо полного псевдомарксистских штампов официального советского языка.
Все это определяло границы интеллектуальных сообществ, затрудняющие проникновение в них. Конечно, герметичность школы Лотмана была иной, чем, скажем, в монашеском ордене или в подпольной революционной группе. Но она принципиально отличалась от советских процедур поддержания целостности организации. Участники летних школ, приглашенные по личным каналам, поражались демократизму в поведении М.Ю. Лотмана и известных исследователей семиотики. В то время как на пути перевода из одного советского университета в другой стояли серьезные бюрократические барьеры, частного разговора иногороднего студента с Лотманом могло быть достаточно для того, чтобы перевестись в Тартуский университет1. Однако эта инаковость практик создавала барьеры и отталкивала не принятых в круг посвященных, превращая их в вольных или невольных союзников государства и официозной науки. Формирование ученого сообщества по принципу размежевания с официальной наукой заставило А. Береловича задаться законным вопросом:
«Если это не советские кандидатские „корочки“, то достаточно ли противостояния официозу, чтоб быть зачисленным в состав „настоящей науки“? Ведь именно по этой логике на страницах очень уважаемых „Трудов по знаковым системам“ в начале 1980-х годов появились одни из первых публикаций Фоменко по „новой хронологии“» [ Берелович, 2006].
Упомянутая аполитичность московско-тартуской школы также казалась ее участникам залогом свободы научного творчества: «...Для ученых Тартуско-московской школы принципиальна была установка на то, что они занимаются делом, стоящим вне политики. Такая позиция давала ощущение свободы, так как борьба с советской системой… делала человека зависимым от этой же системы» ( Кузовкина , 2015, с. 151).
Конечно, эта самоизоляция не была абсолютно герметичной. Она требовала от участников и руководителей школы, в первую очередь от Ю.М. Лотмана, усилий и времени на демонстрацию политической лояльности. Известно, что «Лотман действительно блестяще умел составлять отчеты и тексты, репрезентирующие лояльное отношение к советской идеологии» [ Кузовкина , 2015, с. 151]. Следы такой камуфлирующей работы видны и в его публикациях. Открыв книгу Лотмана «Структура художественного текста» 1970 г., читатель сразу же видел редакционную аннотацию следующего содержания: «Естественно, что семиотический подход к художественному тексту (как подчеркивает и сам автор) ни в коей мере не исчерпывает анализа произведений искусства, изучаемых марксистско-ленинской эстетикой в гносеологическом, социологическом, аксиологическом и других планах» [ Лотман , 1970, с. 2].
Условной была не только самоизоляция школы Лотмана, но и ее аполитичность. Современникам университет в Тарту казался островом свободы, а Лотман - символом либерализма. И он, и его ближайшее окружение были связаны с диссидентской средой и правозащитным движением [ Кузовкина , 2015, с. 140-153; Гаспаров , 1998, с. 218-219]. Западнические тенденции в творчестве Ю.М. Лотмана и его соратников имели явный политический привкус. Последняя книга Лотмана заканчивается фразой, не оставляющей сомнений в его политических пристрастиях, надеждах и опасениях, касающихся будущего России: «Коренное изменение в отношениях Восточной и Западной Европы, происходящее на наших глазах, дает, может быть, возможность перейти на общеевропейскую тернарную систему и отказаться от идеала разрушать „старый мир до основанья, а затем“ на его развалинах строить новый. Пропустить эту возможность было бы исторической катастрофой» [ Лотман , 1992, с. 270].
Итак, школа Лотмана была вполне европейским явлением, возникшим и развивавшимся по общеевропейским принципам формирования и существования интеллектуальных сообществ. Ее создатели в качестве объединяющих содержательных оснований выдвинули идеи, поразительно схожие с гипотезами, разрабатывавшимися 1950-е - 1960-е гг. в США и Западной Европе на базе наследия Ф. Соссюра и возрожденного Р. Якобсоном формализма. Ее организация, как и на Западе, базировалась на дистанцировании от официальной политики и науки. Ее самоизоляция и научное иконоборчество поддерживались специфическим языком, понятным немногим посвященным в мире, но чужим для ученого сообщества в собственной стране. Герметичности школы способствовали также собственный стиль научного письма и скрытые от посторонних глаз научные встречи.
Но были у тартуско-московской школы особенности, сложившиеся благодаря специфическим, советским, условиям существования. Дистанцирование от власти усугублялось враждебноподозрительным отношением последних к группе приверженцев семиотики. Сам переезд Ю.М. Лотмана из Ленинграда в Тарту был не вполне добровольной реакцией на поздний антисемитизм в СССР. Недоброжелательное отношение и подозрение, угроза преследований и преследования вплоть до обыска в 1970 г. в квартире Лотмана и его негласного лишения возможности зарубежных поездок на полтора десятилетия [Кузовкина, 2015, с. 140-153], его вынужденный уход с заведования кафедрой русской литературы и с самой кафедры в 1970-е - 1980-е гг., запоздалое и недостаточное официальное признание в научном сообществе - все это усиливало желание само-изолироваться, чтобы сохранить свободу. Неблагоприятные внешние условия породили тягу к специфическому, непонятному для цензуры «тайному» языку и нежелание участвовать в политике, провоцировали на конструирование научных традиций в обход традиций советских и на союзы с авторами сомнительных идей. Стремление к самоизоляции вкупе с ограничениями научной коммуникации, неизбежными в условиях «железного занавеса», могут рассматриваться и как одними из причин того, что участники школы Лотмана не заметили или проигнорировали ряд продуктивных научных идей, подготовивших антропологический поворот в гуманитарных науках.
Один из родоначальников семиотического направления исследований в СССР, В.Н. Топоров, охарактеризовал свое детище как явление советской культуры и задался горьким вопросом: «В известном отношении оно было и неким новым способом существования у бездны на краю , когда эта опасная близость не столько страшит, сколько вдохновляет и открывает новые горизонты и возможности. По сути дела, это был „российский“ вариант решения некоей большой культурной проблемы, который поразил многих и здесь, и особенно там, вовне, за границей, и породил эйфорическую реакцию. Но не слишком ли расточителен этот вариант и не слишком ли дорого приходится платить за успехи на этом пути?» [ Торопов , 1998, с. 347].
Жизнь школы Лотмана оказалась не столь долговечной, как предполагали ее сторонники, надеявшиеся в 1990-е гг. на ее возрождение в новых, несравненно более благоприятных условиях постсоветского пространства. С крахом СССР разрушилась специфическая рамка полулегальности и оппозиционности, обеспечивавшая школе Лотмана дополнительную притягательность в глазах молодых ученых-нонконформистов. Постструктурализм М. Фуко, Ж. Дерриды и Ж. Лакана нанесли традиционной, позитивистской структуральной семиотике сокрушительный удар, а антропологический поворот в гуманитарных науках в 1970-е–1990-е гг. позволил предложить совершенно иную парадигму истолкования культурных практик. Сами участники тартуско-московского направления, включая Ю.М. Лотмана, на исходе 1960-х – в 1970-е гг. стали перерастать классическую семиотику, в их творчестве начали проявляться элементы постструктурализма. В 1980-е– 1990-е гг. этот процесс усилился в связи с выездом из страны многих представителей школы Лотмана.
Ныне многое из ее наследия, включая труды Ю.М. Лотмана, кажется устаревшим, например, оценка роли выдающейся личности в истории или тезис о российской традиции разрушения как условии культурного обновления. Но идеи Лотмана и его сподвижников о языке, коммуникации и культурной динамике звучат современно. Они нуждаются в актуализации и интеграции в современный научный багаж [ Франк , 2012]2. А история организационных структур и коммуникативных норм и практик тартуско-московской семиотической школы демонстрирует, как оформляется и функционирует общемировой интеллектуальный феномен в контексте конкретно-исторической культурной традиции.
Список литературы Школа Лотмана: европейские интеллектуалы на советской почве
- Берелович А. О культе личности и его последствиях (заметки о позднесоветском интеллектуальном сообществе)//Новое литературное обозрение. 2006. № 76. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/76/be3.html (дата обращения: 30.06.2016)
- Гаспаров Б.М. В поисках «другого» (Французская и восточноевропейская семиотика на рубеже 1970-х гг.)//Московско-тартуская семиотическая школа: История, воспоминания, размышления/под ред. С.Ю. Неклюдова. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 213-236
- Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество М.Ю. Лотмана. М.: Новое литературное обозрение., 1999. 384 с
- Живов В.М. Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения//НЛО. 2009. № 98. С. 11-26
- Жолковский А. К переосмыслению канона: советские классики-нонконформисты в постсоветской перспективе//НЛО. 1998. № 29. С. 55-68
- Зенкин С. Уровень совокупного знания//Новое литературное обозрение. 2006. № 77. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77 (дата обращения: 25.07.2016)
- Кван К.С. Основные аспекты творческой эволюции Ю.М. Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личностность». М.: НЛО, 2003. 176 с
- Кузовкина Т. Один день профессора Ю.М. Лотмана // Новый мир. 2015. № 3. С. 140-153
- Левин Ю.И. «За здоровье Ее Величества!»//Московско-тартуская семиотическая школа: История, воспоминания, размышления/под ред. С. Ю. Неклюдова. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С.309-311
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. 282 с
- Франк С.К. Взрыв как метафора культурного семиозиса//Новое литературное обозрение. 2012. №. 115. С. 12-30
- Giesen B. Die Intellektuellen und die Nation: eine deutsche Achsenzeit. Frankfurt/M., 1993. 280 S
- Giesen B. Kollektive Identitat: Die Intellektuellen und die Nation 2. Frankfurt/M., 1999. 360 S
- Hroch M. Die Vorkampfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Volkern Europas. Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Entwicklung der patriotischen Gruppen, Universitata-Karlova. Praha. 171 S
- Lepenies W. Aufstieg und Fall der Intellektuellen in Europa. Frankfurt/M.; New York, 1992. 95 S
- Waldstein M. Soviet Empire of Signs: A History of the Tartu School of Semiotics. Saarbrucken: VDM Verlag, 2008. 219 р
- Wulff D. Wissenschaftskultur in Russland am Beispiel der Geschichtswissenschaften//Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft. 2004. 52/10. S. 886-893