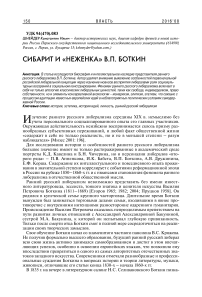Сибарит и «неженка» В.П. Боткин
Автор: Шнейдер Константин Ильич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются биография и интеллектуальное наследие представителя раннего русского либерализма В.П. Боткина. Автор уделяет внимание выявлению особенностей первоначальной российской либеральной концепции через изучение нюансов восприятия либералами роли социокультурных воззрений в социальном конструировании. Феномен раннего русского либерализма включает в себя не только апологию классических либеральных ценностей, таких как свобода, индивидуализм, право собственности, но и элементы консервативной аксиологии - монархизм, элитизм, этатизм, что связано с процессом адаптации известных европейских идей в неблагоприятных политических условиях самодержавной России.
История, эстетика, история идей, личность, ранний русский либерализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170168502
IDR: 170168502 | УДК: 94(470).083
Текст научной статьи Сибарит и «неженка» В.П. Боткин
И зучение раннего русского либерализма середины XIX в. немыслимо без учета персонального социализированного опыта его главных участников. Окружающая действительность неизбежно воспринимается сквозь призму разнообразных субъективных переживаний, и любой факт общественной жизни «содержит в себе не только реальность, но и не в меньшей степени – разум наблюдателя» [Мизес 2001: 196].
Для исследования истории и особенностей раннего русского либерализма большое значение имеют не только растиражированные в академической среде портреты К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина, но и персоналии либералов «второго ряда» – П.В. Анненкова, И.К. Бабста, В.П. Боткина, А.В. Дружинина, Е.Ф. Корша. Содержание их интеллектуального и повседневного опыта проживания в значительной степени коррелирует с событиями реформационной эпохи в России на рубеже 1850–1860-х гг. и c нюансами становления феномена раннего либерализма в отечественной общественной мысли.
Ранний русский либерализм невозможно представить без имени известного литературоведа, эссеиста, тонкого знатока и ценителя искусства Василия Петровича Боткина (1811–1869) [Егоров 1965; 1982; 2004; Пруцков 1958]. Он родился в купеческой семье крупного чаеторговца. Длительное время Боткин вынужден был заниматься торговыми делами семьи, входившими в явное противоречие с внутренними интенциями разносторонне одаренного гуманитария. Происхождение Василия Петровича оказалось непреодолимым препятствием на пути развития личных отношений с Александрой Александровной Бакуниной, сестрой М.А. Бакунина, к которой он испытывал глубокую привязанность. Только после смерти отца Боткин смог в полной мере сосредоточиться на реализации своих творческих замыслов.
Свое обучение Боткин начал со знаменитого частного пансиона В.С. Кряжева. Не получив формально высшего образования, будущий ранний русский либерал всю свою жизнь активно занимался самообразованием и достиг в этом впечатляющих успехов, особенно в освоении европейских языков, что позволило ему впоследствии превратиться в одного из самых авторитетных отечественных знатоков западного искусства. Современники отмечали разнообразные и профессиональные суждения Боткина в вопросах истории и теории литературы, музыки, живописи, отличавшие его статьи конца 1830-х – начала 1860-х гг.
В 1835 г. на вечере в литературном салоне Н.С. Селивановского Боткин позна- комился с В.Г. Белинским, благодаря которому вошел в круг «избранных» деятелей кружка Н.В. Станкевича. С этого времени началась история насыщенных и сложных взаимоотношений Боткина с Белинским, а также с Бакуниным, оказавшим сильное и даже деспотическое влияние на Василия Петровича. Один из самых известных людей этого круга историк Т.Н. Грановский, вернувшийся из длительной научной командировки в Германию, вспоминал в конце 1830-х гг. в письме к Станкевичу свою встречу с Боткиным: «Но – сказать правду – один только из кружка их пришелся мне совершенно по душе – Боткин. Теплый, чистый и умный без умничанья. Мы сошлись с первого разу, и видимся часто»1. Именно Грановский называл Боткина «мучеником прихотей Бакунина».
В начале 1840-х гг. в Боткине не сразу можно было узнать будущего раннего русского либерала, т.к. в его взглядах переплелись романтизм, левогегельянские идеи и радикальные взгляды европейской литературы. Он критически высказывался против любых сдерживающих и обременительных начал, навязываемых человеку извне и мешающих проявлению личностного «я». Среди них оказались различные институты, в т.ч. и церковь. «В христианстве совершилось отчуждение и распадение духа с самим собой и с действительностью. История христианских веков слишком хорошо доказывает ложность того, будто бы чрез идею христианства уничтожилось древнее распадение божества и человечества, неба и земли. Напротив, чрез него они были противоположены друг другу: единство же их положительно признано в нем одном – и нигде кроме него. Чрез это самое все царство действительности: семейство, государство, искусство, наука – стало лишено божественности, сделалось т.е. безбожным», – утверждал Боткин2.
Несмотря на то что подобные высказывания не относятся ко времени «либерального расцвета» в мировоззрении Василия Петровича, следует отметить определенную связь между некоторыми идеями «романтического Боткина», «радикального Боткина» и «либерального Боткина», свидетельствующую о силе их преемственности и аксиологической незаменимости для него. Такими, например, являются представления о доминирующей роли внутренней свободы в человеке в процессе проживания им собственной жизни, самоценности индивидуального духовного мира личности, стремление к высоким нравственным критериям при самооценке и т.д. Поэтому в раннем творчестве Боткина можно обнаружить немало либеральных по своему содержанию и логике развития идей. В том же письме к Белинскому Василий Петрович пропел либеральный гимн Новому времени: «В настоящее время в Европе начинается новая эпоха. Мир средних веков – мир непосредственности, патриархальности, туманной мистики, авторитетов, верований вступает в борьбу с мыслью, анализом, правом, вытекающим из сущности предмета, идеи, а не привязанным к ним…»3
В 1843 г. Боткин влюбился в модистку с Кузнецкого моста Арманс Рульяр и вскоре при настойчивом давлении друзей обвенчался с ней в Казанском соборе в Петербурге. Супруги сразу же отправились в заграничное путешествие, где и закончилась их семейная жизнь. Сказалась разница во всем: уровне образования, взглядах, характерах, жизненных ценностях. При расставании Василий Петрович «назначил ей ежегодную сумму в размере 275 руб. 71 коп. серебром, или 1 100 франков, а в предсмертном завещании выделил ей 20 тысяч франков с любопытным условием: если она будет претендовать на большее, то не давать ей н и копейки. Насколько… известно из документов вокруг наследства
Боткина, она не претендовала, ограничившись назначенной суммой» [Егоров 2004: 49].
За границей все еще романтически настроенный Боткин увлекся левыми идеями, водил знакомство с Марксом, активно интересовался позитивизмом. Однако с возвращением на родину Василий Петрович пережил стремительную либеральную эволюцию своих взглядов и близко сошелся с представителями либерального западничества. В письме к Анненкову он резко осуждал славянофилов: «Как только выступают они к положению, – начинаются ограниченность, невежество, самая душная патриархальность, незнание самых простых начал государственной экономии, нетерпимость, обскурантизм и проч. Оторванные своим воспитанием от нравов и обычаев народа, они делают над собой насилие, чтоб приблизиться к ним, хотят слиться с народом искусственно: так, например, Аксаков не ест телятины, ходит к обедне и всенощной»1. Вместе с тем Боткин положительно относился к критической риторике славянофилов и их попыткам исторически и философски обсудить национальную тему.
В этот период Боткин находился под очевидным влиянием Грановского и вопреки мнению Белинского сотрудничал с журналами «Современник» и «Отечественные записки». Именно в «Современнике» в 1847–1851 гг. печатались знаменитые «Письма об Испании», ставшие результатом его поездки в 1845 г. и сделавшие Василия Петровича знаменитым. Они написаны уже «либеральным западником» Боткиным и пронизаны идеями терпимости, социальной гармонии, эстетизма. Боткин-либерал поэтизировал межсословные отношения в испанском обществе, поражаясь их исторически сложившейся специфике: «…здесь между сословиями царствует совершенное равенство тона и самая деликатная короткость обращения. И не только гражданин, но мужик, чернорабочий, водонос обращается с дворянином совершенно на равной ноге»2.
Автор «Писем об Испании» был до крайности напуган европейскими революционными событиями 1848 г. и жесткой реакцией русского самодержавия на них. В период «мрачного семилетия» (1848–1855) Боткин в своем творчестве практически не касался общественно-политических тем.
После сближения с Н.А. Некрасовым Василий Петрович в 1855–1856 гг. попадает под влияние Дружинина и постепенно становится защитником концепции искусства для искусства, не разрывая внутренней связи с романтизмом. Вообще это «наиболее противоречивый период во всей творческой биографии Боткина: он мог почти одновременно защищать и искусство для жизни, и искусство для искусства, народность – и литературу для избранных, одновременно хвалить и ругать Чернышевского, находиться в дружбе с Дружининым, Ап. Григорьевым и Некрасовым. Но такой период продолжался недолго», – считает Б.Ф. Егоров [Егоров 2004: 89].
В конце концов, тесное общение с отечественным классиком «чистого искусства» Дружининым сделало свое дело. В 1857 г. в журнале «Современник» появилась одна из самых известных статей Боткина «Стихотворение А.А. Фета», символизировавшая переход Василия Петровича на эстетические позиции «чистого искусства». Он критиковал «дидактическое» направление в искусстве и артикулировал идею чувственного восприятия прекрасного, в котором не может быть четких формул и принципа исключительной целесообразности. В этот период Василий Петрович вместе с Анненковым и Дружининым составляли известный триумвират защитников «чистого искусства» в противостоянии с натурализмом («псевдореализмом») и демократическим трендом в эстетике. Боткин обращался к искусству, в частности к поэзии, за аргументами в пользу приоритета свободы внутреннего мира человека перед внешними жизненными обстоятельствами, окружающими личность и общество. По его мнению, бессмысленно изучать социальные процессы только средствами политической истории, которая одна «не в состоянии передать так жизнь народов, как передает ее поэзия и вообще искусство. История передает только факты; внутренняя жизненная сила фактов исчезает от нашего исследования»1.
В данной статье, как и в других произведениях конца 1850-х гг., Боткин предстает еще и в роли апологета европейского пути развития как достойного подражания. «Это направление показывает разумный путь, на который, наконец, вступило это общество, показывает возмужалый, окрепший ум его»2. Европеизм Боткина усилился в связи с его поездками за границу в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Василий Петрович проникся идеей высокой значимости европейской культуры и ее роли в цивилизационном процессе, мечтал о распространении западных достижений в различных областях на отечественную почву.
Идеальные черты мироустройства, социальную гармонию он находил в жизнедеятельности британского общества, о чем писал в своих работах. В 1859– 1860 гг. в либеральном журнале «Русский вестник» появились две его статьи «Приюты для бездомных нищих в Лондоне» (1859) и «Две недели в Лондоне» (1860). Одну из важных причин общественного благополучия современной ему Англии Боткин видел в историческом соучастии и сотворчестве британцев в процессе внутреннего социального обустройства. «Да и много надо иметь мужества, много любви к правде, чтобы перед всеми обнаруживать раны и болезни свои. В старые годы скрывать их считалось национальным достоинством, даже доказательством любви к отечеству, как будто скрывать от других собственные пороки – значит быть добродетельным. Ни одна страна в мире не подвергалась такому неумолимому процессу анализа и критики от сынов своих, как Англия, и дай Бог, чтобы каждый из нас любил Россию, как англичанин любит свою Англию», – убеждал Боткин3. Важно отметить либеральное восприятие им конструктивной национальной критики как главного показателя истинной любви к отечеству. Об этом в России в середине XIX столетия решались говорить немногие.
Открытость британского общества внутренней и внешней критике дополнялась, по мнению Василия Петровича, исторической ролью знаменитой английской аристократии, сохранявшей и защищавшей собственные привилегии цивилизованным путем. В своем стремлении к политической власти высшее сословие Британии должно было «постоянно опираться на средние классы и через то делать их участниками своих прав, она [аристократия] всегда была самым просвещенным, самым независимым, по мнениям своим, классом в стране»1.
Вместе с тем первая половина 1860-х гг. стала временем нового и весьма резкого поворота в мировоззрении Боткина. Он эволюционировал вправо, занимая подчас крайне консервативные позиции, что нетрудно продемонстрировать на примере его предельно отрицательного отношения к известному польскому восстанию. В последние четыре-пять лет своей жизни «Боткин медленно, но верно превращается в откровенного консерватора, сторонника самых реакционных политических форм и чуть ли не патриота по-славянофильски» [Егоров 2004: 116].
Одной из важных причин очередного интеллектуального кризиса были серьезные проблемы со здоровьем. Болезнь Василия Петровича протекала тяжело, и он всячески пытался скрасить последние годы жизни. Оставаясь до конца эстетом и сибаритом, Боткин незадолго до смерти в шикарной квартире в Петербурге устраивал для себя музыкальные концерты и званые обеды для друзей. В.П. Боткин скончался 10 октября 1869 г.
Среди ранних русских либералов середины XIX в. Боткин более чем кто-либо другой подвергал свои взгляды кардинальной ревизии. Он пережил увлечение радикальными, либеральными и консервативными идеями миропонимания. Такое неоднократное и свободное перемещение из одного сегмента поля производства идей в другой скорее всего позволяет сделать вывод об интеллектуальной маргинальности раннего русского либерализма.
Формирование начальной отечественной версии либерализма происходило через национальную адаптацию классических либеральных постулатов в условиях «самодержавной оттепели» – кануна «великих реформ», когда в борьбу за символический капитал лучшего проекта перспективного развития страны вступили демократические, либеральные и консервативные силы. Поэтому отцы-основатели русского либерализма неизбежно испытывали сильное давление своих оппонентов «слева» и «справа», что не могло не отразиться на содержании раннелиберальной концепции.
Вместе с тем либеральный период В.П. Боткина второй половины 1850-х гг., изрядно сдобренный романтическими интенциями, эстетическим снобизмом и элитизмом, поставил его в ряд тех, кто впервые предложил специфически переработанный и усвоенный отечественный вариант европейских либеральных ценностей.
Список литературы Сибарит и «неженка» В.П. Боткин
- Егоров Б.Ф. 1965. «Эстетическая критика» без лака и дегтя (В.П. Боткин, П.В. Анненков, А.В. Дружинин). -Вопросы литературы. № 5. С. 142-160
- Егоров Б.Ф. 1982. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л.: Искусство. 269 с
- Егоров Б.Ф. 2004. Боткины. СПб: Наука-СПб. 320 с
- Пруцков Н.И. 1958. «Эстетическая» критика (Боткин, Дружинин, Анненков). -История русской критики. М.-Л.: АН СССР. Т. 1. С. 444-469
- Мизес Л. 2001. Либерализм в классической традиции. -М.: Экономика. 239 с