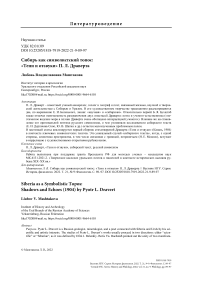Сибирь как символистский топос: "Тени и отзвуки" П. Л. Драверта
Автор: Маштакова Л.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
П. Л. Драверт - известный ученый-минеролог, геолог и географ и поэт, связанный жизнью, научной и творческой деятельностью с Сибирью и Уралом. В его художественном творчестве традиционно рассматриваются две, по выражению Е. И. Беленького, линии: «научная» и «сибирская». Относительно первой Б. Я. Бухштаб также отмечал невозможность разграничения двух ипостасей Драверта: поэта и ученого-естественника («поэтическое видение мира в поэзии Драверта очень обогащено апперцепцией ученого»). Влияние же на становление его оригинальной поэтики русского символизма, о чем упоминали исследователи сибирского текста (Е. И. Дергачева-Скоп, Ю. В. Шатин и др.) остается малоизученным проблемным полем. В настоящей статье анализируется первый сборник стихотворений Драверта «Тени и отзвуки» (Казань, 1904) в контексте ключевых символистских текстов. Это уникальный случай «сибирского текста», когда, с одной стороны, семиотика пространства, в том числе связанная с границей, пограничьем (Н. Е. Меднис), вступает в корреляцию с художественными открытиями рубежа веков.
П. л. драверт, тени и отзвуки, сибирский текст, русский символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147239030
IDR: 147239030 | УДК: 82.01/.09 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-9-89-97
Текст научной статьи Сибирь как символистский топос: "Тени и отзвуки" П. Л. Драверта
Петр Людвикович Драверт (1879–1945), чье детство прошло в Екатеринбурге, юность – в Казани, чья судьба связана годами жизни и исследовательской работы с Омском, а также со Средним Уралом, Якутией, Байкалом, остался в памяти современников как выдающийся ученый-минеролог, геолог и географ. Его поэтическое наследие – пять сборников стихов («Тени и отзвуки» (1904), «Ряды мгновений» (1908), «Под небом Якутского края» (1911), «Стихотворения» (1913), «Сибирь» (1923)) и многочисленные публикации – исследовано сравнительно мало и в основном в контексте феномена его творческой личности: энтузиаста, романтика и первооткрывателя. Еще менее исследовано влияние на его поэзию модернизма. В беглом упоминании Драверта в связи с «Сибирскими огнями» Ю. В. Шатин называет его «традиционным поэтом» [Шатин, 2018, с. 90]. В «Очерках русской литературы Сибири» [1982, с. 557–558] отмечается его близость к декадентству. Сам же поэт о своем первом сборнике сказал: «Порядочная лирическая дребедень, где сильно сквозит влияние Бальмонта» [Драверт, 1979, с. 219].
Сборник стихов «Тени и отзвуки» вышел в 1904 г. в типографии Казанского университета, где поэт с 1899 г. числился на естественном отделении физико-математического факультета. С первых лет в университете он состоял в Обществе естествоиспытателей, путешествовал по Среднему Уралу. Недолгая ссылка за участие в студенческом движении в 1901 г. и работа на миасском заводе прервали его учебу, но в том же году он восстановился в университете и в 1902 г. отправился на юго-западный берег Байкала, где до 1903 г. занимался минералогическими исследованиями [Лейфер, 1979, с. 36]. Впечатления урало-сибирских экспедиций и увлечение минералогией легли в основу его первого сборника, вышедшего за год до высылки в Якутию. Сборник «Тени и отзвуки» можно считать фактом одновременно «сибирского текста» и модернистского периода творчества Драверта.
Определяя «сибирский текст» русской литературы, Н. Е. Меднис выделила семиотический концепт границы, разделяющей географические пространства «Сибирь» и «Россия» [Меднис, 2011]. Он наделен мортальными смыслами, что согласуется с пониманием мифологемы Сибири, истолкованной В. И. Тюпа [2002] через архетипический сюжет обряда инициации и ритуальной смерти в литературе сибирского текста.
Граница имеет и онтологические основания. Примечательно, что в начале своих рассуждений в статье «Семиотика границы в “сибирском тексте” русской литературы» Н. Е. Мед-нис оттолкнулась от слов А. Белого о границах познания: «Мысль о границе, черте есть продукт потрясения, страха» [Меднис, 2011, c. 120]. Окказиональное сближение сибирского текста и идей русских символистов при ближайшем рассмотрении имеет больший смысловой и поэтологический потенциал, чем внешнее сравнение. Именно ощущение пограничья, края и стремления за пределы (географические, культурные, ментальные) определило вектор развития русского Серебряного века.
По мысли Ю. В. Шатина и И. В. Силантьева, соединение доксы мифологемы Сибири и авторского модернистского мифа, включающего «желание выйти за пределы общечеловеческих правил общежития» [Шатин, Силантьев, 2020, c. 300], легло в основу драмы Г. Чулкова «Тайга». Резюмируя анализ критических отзывов о произведении, исследователи приходят к выводу: «Вполне вероятно, что неудача “Тайги” заложена была уже в самом замысле – проиллюстрировать основные тезисы мистического анархизма, перенеся их в якутскую юрту. Вряд ли было возможно соединить экзотику якутской жизни с рафинированной эзотерикой, характерной для символизма» [Там же, с. 305].
Замечание справедливо: если символизм искал «расширения художественной впечатлительности» в экзотических темах и образах, то находил он их чаще на Востоке, в Латинской Америке, Африке или в народной русской культуре, «подлинной» России. Но случай П. Л. Драверта будет очевидно выделяться на этом фоне. Поэт осваивает экзотическое пространство Сибири и Севера (в якутской ссылке Драверт оказался пятью годами позже Чулкова), делает его полностью «своим» и с этих позиций исследует и презентует, оставляя за пределами семантику мортальности и лиминальности – она отдана негеографическим границам.
Характеристика сборника в символистском контексте
Открывает сборник «Тени и отзвуки» посвящение: «Дням прошлого светлым и мрачным эти Тени и Отзвуки их посвящает признательный автор» [Драверт, 1904, с. б/н] 1. Само название книги, опубликованной в начале века, вписывает ее в известный символистский контекст, где «человеческое познание и коммуникация блуждают в “неистинном”, в сфере теней » [Ханзен-Лёве, 1999, с. 226], или контекст романтический (ср.: «Мечты и звуки» Некрасова), предсимволистский, фетовский. Сам Драверт говорит о своем сборнике в стихотворении «Уралу»: «цепь стихов туманных и неясных» (с. 46), что также соответствует названию «Тени и отзвуки». Здесь же, в посвящении, поэт оговаривает: сборник – отражение жизни, которой он благодарен. Позже о стихотворениях второго сборника «Под небом Якутского края» он сказал: «Была какая-то сильная потребность передать в этой форме свои впечатления» [Драверт, 1979, с. 220]. Именно сильная потребность движет им в поисках языка, адекватного пережитому, в данном случае – поэтического языка. Но в то же время природа этой потребности ему не вполне ясна, неопределима, как бы дана извне. Балансирование между интуицией поэта и ученого-естественника, стремлением к точности, лаконичности высказывания и осознанием конечной неопределимости законов мира и бытия, между позитивистским интересом и отстраненной созерцательностью – создает оригинальность раннего творчества Драверта.
Уже в первых стихотворениях сборника «Тени и отзвуки» мы видим его героя традиционным для Серебряного века романтическим путешественником и жрецом, причастным тайнам жизни:
Проникать в тайники бытия
И в начале увидеть конец –
В этом сила и мудрость моя,
Я – невидимых идолов жрец…
(с. 15).
Будто вступая в диалог с Вл. Соловьевым («Милый друг, иль ты не видишь…»), Драверт отвечает в стихотворении «Я вижу ветра тень на облаках волнистых»: «Я вижу целый мир в снежинках серебристых»; «Я слышу пенье нимф на дне морей глубоких»; «Я чую в недрах гор потоков трепетанье» (с. 1). «Здесь, как в зерне растение, весь Драверт, – писал об этом стихотворении Е. И. Беленький, – с его обостренным зрением и слухом ученого и поэта, стремлением проникнуть в тайны мироздания» [Драверт, 1979, с. 86]. Его лирический герой поднимается на вершины гор и опускается на дно моря, усматривает жизнь в каждой окружающей его детали мира и обнаруживает его, этого мира, сокровенную, сущностную анти-номичность (луч – в бездне, мрак – в дне, поток – в камне, огонь – в льдине). Характерный, в целом, для поэзии модернизма сюжет о познании, исследовании, открытии сопровождается позитивными утверждениями «я вижу», «я слышу», «я чую».
Лирический герой наделен абсолютным зрением и слухом, но также ему дано интуитивное чутье. В другом стихотворении иррациональные интуиции названы зрением души:
Верьте: то, что порою для нас
Представляется мертвым вполне,
То души проникающий глаз
Может видеть живущим вдвойне…
(с. 15).
«Он утончит слух и будет слышать, “что говорят вещи”; изощрит зрение и научится понимать смысл форм и видеть разум явлений», – писал о таком типе взаимоотношений мира и символистского художника Вяч. Иванов [1974, т. 2, с. 539]. В случае Драверта это относится не только к творческим интуициям. Проникает в «тайники бытия» поэт-жрец, поэт-пророк, он же – ученый-естествоиспытатель, исследующий неметафизические основы жизни и уже в них находящий поэзию. Каждая деталь явленного мира для него не просто отблеск «от незримого очами», но часть общего закона бытия, постигаемого эмпирически. Как отмечал Б. Я. Бухштаб, «восприятие едино, – и поэтическое видение мира в поэзии Драверта очень обогащено апперцепцией ученого. <…> “Волны света”, “магнитные бури” – не этими терминами говорили поэты» [Бухштаб, 1944, с. 66]. «Апперцепция ученого» отличает его от современников-символистов, в частности от К. Бальмонта или В. Брюсова, которого упоминает в указанной работе Б. Я. Бухштаб. В более ранней поэтической традиции здесь можно вспомнить, например, С. Т. Кольриджа, посещавшего для обновления метафор лекции Х. Дэви. Путь Драверта – иной: в его случае не поиск средств выразительности инициирует сопряжение науки и поэзии. Первично впечатление познающего ума, а поэзия наравне с научными изысканиями – один из способов высказывания, хоть и подсказанный «какой-то» неопределимой сильной потребностью.
Специфика «научных» образов и мотивов в поэзии Драверта
Картины диких гор Урала, Байкала, а позже – земли Якутии, звезды, метеориты, минералы, новые химические элементы – постоянные спутники лирического героя Драверта. В первой книге эти темы и образы еще не столь очевидны и самостоятельны и могут быть вплетены, например, в сюжет любовного свидания. Так, в стихотворении «Я долго рассказывал милой…» герой вдохновенно живописует героине невидимую глазу жизнь и трансформации минералов. В стихотворении «Заброшенный рудник» темы его научных пристрастий находят выражение в романтическом сюжете безвременно затопленного рудника, тайно хранящего в себе сокровища (вероятно, стихотворение вдохновлено его юношескими поездками по уральским рудникам с отцом).
Образы Уральских гор появляются также в заключительном стихотворении сборника «Уралу»: «цепь твоих могучих дивных гор», «живая цепь Урала». «Мой край родной!» (с. 46) – восклицает поэт, хотя и не связан с этой местностью рождением. Для него важно восприятие места как своего, освоенного, изученного, ставшего потому родным. Так что даже цепь гор сравнивается им с цепью стихотворений в сборнике, их последовательность как бы напоминает горный ландшафт.
Романтический дикий топос будто открывается им заново, присваивается и перестает быть «чужим». Если для него и существует граница Россия / Сибирь, то она формальна и не мыслится как соотношение центра и периферии, все важные события происходят по восточную сторону Уральских гор: падение метеорита, разработка недр, освоение Севера. «Понятно, чем достигается особая локальность пейзажей Драверта, - писал Б. Я. Бухштаб, - взглядом, проникающим за пределы видимого вдаль и вглубь» [Бухштаб, 1944, с. 68]. Граница (территориальная, локальная, как предел познания) как бы постоянно осваивается героем-исследователем, потому и она отодвигается «вдаль и вглубь».
Стихотворение «Тихо плескался о берег Байкал…» и символистская традиция
Отметим, что в высказывании Б. Я. Бухштаба упоминается, но не развивается свойство героя поэзии Драверта проникать «за пределы видимого», в контексте приведенной цитаты обусловленное «апперцепцией ученого». Драверт-ученый затмевает в исследованиях, посвященных его творчеству, Драверта-поэта, прошедшего увлечение символизмом. Действительно, на фоне других его сборников эта связь неочевидна и, как кажется, второстепенна. Но именно в первом сборнике формируется его оригинальный художественный мир, в фундаменте которого обнаруживаются его ранние литературные пристрастия. И о том, что поэтика символизма была им вполне усвоена и оригинально переработана, свидетельствует одно из наиболее репрезентативных в этом отношении стихотворений - «Тихо плескался о берег Байкал...»:
* * *
Тихо плескался о берег Байкал,
Бурею за день себя утомив;
Я на высоком утесе стоял,
Вдаль неподвижно свой взгляд устремив.
Там, где сходилося небо с водой,
Где по утру появлялась заря, -
Там уже виден был парус мне твой,
Весь освещенный огнем фонаря.
Этим огнем ты давала понять,
Что возвращаешься снова ко мне;
Но неужели я мог доверять
Непостоянной Байкальской волне?..
Что, как поднимется сорма, и ты,
В битве устав со стихией слепой,
Средь этой ночи густой темноты
Путь потеряешь намеченный свой?..
Что, если волны наклонят челнок,
За борт польются потоки воды,
Берег по-прежнему будет далек, -
Кто тебя вырвет из этой беды?..
Мрачные думы тревожат меня, Зорко смотрю я в туманную даль; Там же, мои опасенья гоня, Тихо блестит на корме твой фонарь
(c. 10).
Прочтение этого стихотворения в символистском ключе, учитывая время его написания, кажется закономерным. Однако в библиотеке П. Драверта, хранящейся в Омской областной научной библиотеке, книг ни Бальмонта, ни кого-либо из русских и не только символистов нами обнаружено не было. Библиотека ученого-минеролога и ссыльного революционера вообще не изобилует художественной литературой, среди немногочисленных экземпляров – классики начала XIX в., А. А. Фет, А. П. Чехов, Л. Андреев и В. Каменский. В сохранившемся письме отцу из якутской ссылки Драверт просил в отсутствие чтения прислать научную литературу [Драверт, 1974, c. 217]. Можно предположить, что книги, которыми поэт был увлечен в юности, попросту не сохранились в его библиотеке. Но, настаивая на связи Драверта с символизмом, скажем, что, по воле или против воли автора, выпущенное в 1904 г., стихотворение и не могло быть прочитано внимательным читателем вне символистского контекста.
В стихотворении разворачивается сюжет ожидания. Во время затишья после бури герой встречает возлюбленную с другого берега Байкала. Напряжение уже в самом начале создается оппозицией: «тихо» – «бурею» – «неподвижно». В романтическом пейзаже (водная стихия, высокий утес) появляется романтический герой: тиха вода, таящая в себе бурю, неподвижен он, сопротивляющийся мрачным думам.
Динамику развития сюжета задает переживание лирического героя: он боится непогоды и катастрофы, но приближающийся свет фонаря разрешает его тревоги. Ритмически здесь выделяется одна строка в середине, разделяющая стихотворение на две части: «Но неужели я мог доверять / Непостоянной Байкальской волне?..» И вслед за акцентированным непостоянством волны одна за другой следуют картины кораблекрушения: сорма (или сарма 2), битва со стихией, густая темнота, потеря пути и осознание беспомощности героя: «Кто тебя вырвет из этой беды?..» Сомнения не разрешаются: в четырех отделенных строках финала он так же тревожно всматривается в туман, но в финале происходит важная замена – настоящего и прошедшего нарративного (Е. В. Падучева): стоял – смотрю, мог доверять – тревожат, был виден – блестит; и это как бы ломает и приближает к читателю сюжетное время, наращивая драматизм. Отсутствие развязки и переход прошедшего в длящееся настоящее также создают ситуацию вечного ожидания и вечного плавания, вечной встречи корабля, который как будто становится виден, но не приближается, а очертания его неясны. Ср. у Блока: «Они ждут чего-то от кораблей, которые придут сегодня…» («Король на площади», 1906).
Исключительность происходящего подчеркивают образы неба, сходящегося с водой, единого пространства верха и низа, и зари, на месте которой возникает освещенный фонарем парус, причем весь освещенный. Героиня, приближающаяся к герою, не персонифицирована, но ей соответствуют образы сходящихся неба и моря, зари, паруса, челнока, окруженного светом. Эти образы делают героиню близкой к символистской жене, облаченной в солнце. Так, например, у А. Белого в стихотворении «Любовь» (1901 или 1902): вечерний час, тишина, плескание, шум волн, грусть, тревога, всматривание вдаль, корабль / челн в отдалении мелькает или «уже виден», «туманная даль», «облако туманное», освещение, появление на горизонте. Этот же яркий аметистовый свет в стихотворении-посвящении А. Белого «Бальмонту» (1903): «И луна, как фонарь, / озаряла нас отсветом красным» [Белый, 2008, с. 513]. Образу-мотиву света на горизонте, огня фонаря близок и «горизонт в огне» А. Блока, или у Вл. Соловьева, еще раньше: «В алом блеске зари я тебя узнаю» [Соловьев, 1974, с. 91].
Разумеется, челн или корабль в море, в стихии – образ с богатой литературной историей, в русской поэтической традиции это и «утлый челн», «бедный челн», и «парус одинокий». Из ближайшего Драверту символистского контекста – известный «Челн томленья» (1894) Бальмонта. В этом стихотворении реализуются те же образы и мотивы близкой бури, мрака, челна, охваченного стихией, тревоги, коррелирующие у Бальмонта с нахождением как бы
«в космическом разломе двух эпох» [Океанский, Океанская, 2012, c. 41]. Челнок же Драверта окружен светом, знаменует надежду, приближение мечты и, в конце концов, является атрибутом героини, появляющейся на границе неба и воды. Тревога и сомнение еще не оставили героя, но они должны разрешиться приходом героини (ср. у Блока: «и близко появленье» – «но страшно мне»). Драматизм задает и романтическое по сути соотнесение «буря – мрачные думы», также с богатой традицией (например, «Буря на небе вечернем…» А. Фета, которое, по предположению В. Ф. Маркова, навеяло Бальмонту строки стихотворения «Челн томленья» [Markov, 1992, S. 33]).
Если образ героини эфемерен и строится из ее атрибутов, то пейзаж, напротив, конкретен и одновременно романтизирован: «дальний берег», «очарованный берег» становится берегом Байкала; спокойное море, таящее в себе угрозу бури, – водами озера в ожидании сармы. Сибирские пейзажные образы и мотивы абсолютно реалистической угрозы оказаться на воде во время бури контаминируют с символистскими и создают по-своему уникальный сплав, когда не творческая мысль отталкивается от символа, а буквально конкретные детали пейзажа обретают потенциал символа в произведении, прочитываются как символы.
Балансирование между конкретным и умозрительным, настойчивое подчеркивание естественно-научного источника творческой мысли и обращение к словарю символистов задает своеобразие поэтики первого сборника Драверта. Однако при всей очевидности литературных увлечений поэта некоторые аспекты такого сближения оставляют неразрешенные вопросы. Стихотворения сборника «Тени и отзвуки» если и могли быть написаны в подражание Бальмонту, Брюсову, Соловьеву, то вряд ли на них повлияли Блок и Белый. Учтем также сравнительно небыстрое сообщение между столичными городами и восточной частью страны и то, что начало 1900-х гг. поэт и ученый проводил в экспедициях. Однако именно в таком, позднесимволистском ключе прочитывается часть стихотворений сборника. Попробуем объяснить это художественной потенцией символистского поля или «генетической памятью» литературы, когда, по выражению С. Г. Бочарова, родство «более или менее удаленных друг от друга в пространстве и времени произведений и текстов <…> невозможно или трудно объяснить прямым влиянием текста на текст и сознательной целью писателя» [Бочаров, 2012, c. 7].
Заключение
Органический принцип, существующий, конечно, в зависимости от степени рефлексии носителя культуры, не делает П. Драверта символистом, но расширяет контекст символистских образов и географию издания близких этому направлению произведений, с одной стороны. С другой стороны, поэзия Драверта – по-своему уникальный случай «сибирского текста», когда семиотика пространства вступает в корреляцию с художественными открытиями рубежа веков и когда в конкретном локусе проступает «очарованная даль», прежде ему совершенно чуждая. Другими словами, ранняя поэзия Драверта демонстрирует иной и более органичный путь этой корреляции, в отличие, например, от упомянутой «Тайги» Г. Чулкова, где в экзотический топос вмешивается «рафинированная эзотерика». Поэтический голос Драверта, вдохновленный усвоенной и присвоенной сибирской экзотикой, становится созвучным эпохе, отражает ее основные художественные открытия, но не ставит их во главу угла.
Список литературы Сибирь как символистский топос: "Тени и отзвуки" П. Л. Драверта
- Белый А. Петербург. Стихотворения. М.: Эксмо, 2008. 800 с.
- Бочаров С. Г. Генетическая память литературы. М.: РГГУ, 2012. 341 с.
- Бухштаб Б. Поэзия Петра Драверта: К 40-летию поэтической деятельности П. Л. Драверта // Омский альманах. Омск: ОГИЗ, 1944. Кн. 4. С. 64-74.
- Драверт П. Незакатное вижу я солнце / Вступ. ст. Е. Беленького. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. 224 с.
- Драверт П. Тени и отзвуки. Казань: Унив. тип., 1904. 46 с.
- Иванов Вяч. И. Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. Д. В. Иванова, О. Дешарт. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1971. Т. 1. 872 с.; 1974. Т. 2. 852 с.
- Лейфер А. Э. «Сибири не изменю!..»: страницы одной жизни. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. 134 с.
- Меднис Н. Е. Семиотика границы в «сибирском тексте» русской литературы // Меднис Н. Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Языки славянской культуры, 2011. С. 120- 134.
- Океанский В. П., Океанская Ж. Л. Зыбь существования в поэтическом мире Бальмонта // Феномен К. Д. Бальмонта в современном культурном пространстве / Под ред. В. П. Океанского и др. Иваново: Изд. Епишева О. В., 2012. С. 38-46.
- Очерки русской литературы Сибири: В 2 т. / Е. И. Дергачева-Скоп, Е. К. Ромодановская, В. В. Блажес и др.; редкол.: В. Г. Одиноков (отв. ред.) и др. Новосибирск: Наука, 1982. Т. 1: Дореволюционный период. 606 с.
- Соловьев В. С. Стихотворения и шуточные пьесы / Сост. и примеч. З. Г. Минц. Л.: Сов. писатель, 1974. 350 с.
- Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27-35.
- Ханзен-Лёве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм / Пер. с нем. С. Бромерло и др. СПб.: Академический проект, 1999. 508 с.
- Шатин Ю. В. Стихотворная техника поэтов «Сибирских огней» в 1920-е годы: между традицией и авангардом // Критика и семиотика. 2018. № 2. С. 89-100. https://doi.org/10.25205/2307- 1737-2018-2-89-100
- Шатин Ю. В., Силантьев И. В. Драма Г. Чулкова «Тайга»: рецепция сибирского текста в контексте русского символизма // Вестник Том. гос. ун-та. Филология. 2020. № 66. С. 298-307. https://doi.org/10.17223/19986645/66/16
- Markov V. Kommentar zu den Dichtungen von K. D. Bal’mont: 1890-1909. Köln, Wien, 1988.