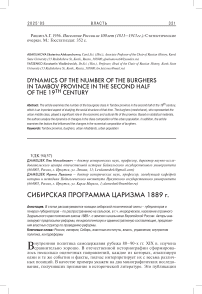Сибирская программа царизма 1889 г.
Автор: Дамешек Л.М., Дамешек И.Л.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются позиции сибирской политической элиты - губернаторов и генерал-губернаторов - по распространению на сельское, в т.ч. инородческое, население огромного Зауральского края положения закона 1889 г. о земских начальниках Европейской России. Авторы анализируют предпосылки реформы, ее идеологическую и административную составляющие, предложения властных структур по проведению реформы.
Россия, империя, сибирь, властные институты, власть, управление, внутренняя политика, контрреформы
Короткий адрес: https://sciup.org/170210378
IDR: 170210378 | УДК: 94(57) | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-321-327
Текст научной статьи Сибирская программа царизма 1889 г.
В нутренняя политика самодержавия рубежа 80–90-х гг. XIX в. изучена сравнительно хорошо. В отечественной историографии сформировалось несколько оценочных направлений, каждое из которых, анализируя одни и те же события и факты, подчас интерпретирует их с весьма различных позиций. В качестве примера укажем на два монографических исследования, получивших признание в исторической литературе. Это публикации
П.А. Зайончковского и А.Н. Боханова, в которых и сама личность Александра III, и его внутренняя политика оцениваются с весьма различных позиций [Зайончковский 1970; Боханов 1998]. В политическом плане крупномасштабные реформы 1860–1870-х гг., безусловно, способствовавшие переходу России на путь буржуазного развития, завершились убийством 1 марта 1881 г. народовольцами императора Александра II. Однако никакого революционного взрыва в стране, столь ожидаемого народовольцами, не последовало. Более того, как свидетельствуют последние заслуживающие внимания исторические исследования этих событий, выражение верноподданнических монархических чувств представителями различных социальных слове и групп российского общества резко возросло [Сафронова 2014: 214]. Восшествие на престол нового императора Александра III ознаменовалось не только казнью пяти народовольцев, но и установлением в стране жесткого полицейского режима, подкрепленного Положением об усиленной и чрезвычайной охране. Начавшаяся эпоха «народного самодержавия» сопровождалась усилением русификации на окраинах и разжиганием великорусского национализма.
Здесь уместно заметить, что министерство вновь выдвинуло на повестку дня вопрос о целесообразности сохранения на востоке империи региональных особенностей управления. Одной из важных исторических особенностей России были многонациональность и евро-азиатское строение. К началу XX столетия примерно 56% населения страны составляло нерусское население. Азиатский маркер географического строения империи начал очерчиваться с завоевания Казани. Ко времени рассматриваемых в настоящей публикации событий площадь Азиатской России составляла 80% территории государства, и проблема выстраивания взаимоотношений «исторического ядра государства» и его азиатских окраин все больше приобретала стратегический характер для судеб России на востоке.
В 80-х гг. XIX в. проблемы властного освоения и ментального осмысления азиатских пространств России как земель русских приобрела особую значимость. Императорский Петербург не баловал Сибирь вниманием. Со времен сибирских преобразований М.М. Сперанского в 1822 г. Сибирь в плане административного устройства отошла на второй план. Такое положение продолжалось до середины XIX в. В 1851 г., когда краем управлял молодой и амбициозный генерал-губернатор Н.Н. Муравьев (с 1858 г. – граф Амурский), были образованы две новые области с «упрощенным управлением» – Забайкальская и Якутская. Тогда же на административной карте Сибири появились Камчатской область и Кяхтинское градоначальство1.
В 1882 г. было упразднено генерал-губернаторство Западной Сибири, а входившие в его состав Томская и Тобольская губернии напрямую перешли в подчинение Министерству внутренних дел2. Тем самым министерство вновь выдвинуло на повестку дня вопрос о целесообразности сохранения на востоке империи региональных особенностей управления, провозглашенных М.М. Сперанским еще в 1822 г. Одновременно с этим было учреждено Степное генерал-губернаторство с центром в г. Омске в составе Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской областей.
Вместе с этим значительно усложнились управленческие функции новых органов власти. Этнический фактор традиционно занимал отнюдь не последнее место в должностных обязанностях «главных начальников края» на востоке государства. Но в новой ситуации, когда на смену традиционным адми- нистративным структурам инородческого общества – родовым управлениям и др. – пришли жузы и аулы, а место обрусевших татар заняли «киргиз-кай-саки» (казахи), функции генерал-губернаторской власти существенно усложнились. Однако на этом административные преобразования в Азиатской России отнюдь не были завершены. Тогда же из Амурской, Забайкальской и Приморской областей было образовано Приамурское генерал-губернаторство. Таким образом, в ведении генерал-губернатора Восточной Сибири остались лишь Енисейская, Иркутская губернии и северная Якутская область. Административным центром нового региона по-прежнему оставался Иркутск.
В 1887 г. в этом генерал-губернаторстве произошло еще одно важное событие. Было упразднено Главное управление Восточной Сибири и совещательный совет ГУВС, образованные М.М. Сперанским в 1822 г. как противовес генерал-губернаторскому самовластию в Сибири. Тем самым принцип компромисса между центральной и местной властью, провозглашенный Сперанским в Сибирском учреждении 1822 г., в новых исторических реалиях был окончательно отвергнут. Вместо упраздненных административных органов была образована канцелярия генерал-губернатора, а сам «главный начальник края» получил наименование военного. Нечто похожее можно было наблюдать и в других генерал-губернаторствах Азиатской России, например в Туркестанском генерал-губернаторстве с центром в Ташкенте, образованном в 1868 г. Первым военным генерал-губернатором Восточной Сибири стал генерал-лейтенант граф А.П. Игнатьев, отец известного впоследствии генерал-лейтенанта Красной армии А.А. Игнатьева, автора популярной книги «50 лет в строю», на которой воспитывалось не одно поколение офицеров Советской армии. По иронии судьбы А.П. Игнатьев исполнял обязанности последнего генерал-губернатора Восточной Сибири (1885–1887 гг.) и первого военного генерал-губернатора (1887–1889 гг.) Будучи хорошо образованным и деятельным человеком, А.П. Игнатьев на посту генерал-губернатора много внимания уделял развитию транспортных артерий Восточной Сибири, прежде всего Култукского тракта и Кругобайкальской дороги. Несомненной заслугой Игнатьева стало активное сотрудничество с Восточно-Сибирским отделением Русского географического общества. Генерал-губернатор способствовал финансированию экспедиционной деятельности отдела, на свои личные сбережения приобрел для музея ВСОРГО зоологическую коллекцию. В 1899 г. именно члены ВСОРГО выступили с инициативой о присвоении генерал-губернатору звания почетного гражданина Иркутска [История Иркутской губернии 2024: 589].
Пребывание А.П. Игнатьева на посту военного генерал-губернатора Восточной Сибири хронологически полностью совпадает с эпохой контрреформ, начавшейся с восхождением на российский престол императора Александра III. Последующее вслед за этим наступление на реформы Александра II сопровождалось националистическим вектором политики нового императора. Современниками национальная политика царизма эпохи контрреформ характеризуется как «злостная травля всех народностей, которые обвинялись в стремлении к сепаратизму» [Чичерин 1901: 130; Дамешек 2018: 235].
Этот новый крен правительственной политики стал особенно отчетливо заметен на окраинах государства, населенных в значительной степени нерусскими народами. Необходимо заметить, что сибирская администрация еще со времени управления краем Н.Н. Муравьевым-Амурским ставила перед петербургскими властями вопрос о подчинения сибирских инородцев общеимперскому законодательству. Да и само правительство постепенно склонялось к мысли об ускорении темпов интеграции русского и коренного населения Зауральского края. Задача сделать народы Сибири русскими приобретала все более зримые очертания.
Анализ отчетов губернских властей Сибири 60–70-х гг. XIX в. неопровержимо свидетельствует, что эти предложения находились в неразрывной связи с разработкой проектов крестьянской реформы для Сибири, с одной стороны, и стремлением к пересмотру основных положения Устава об управлении инородцев М.М. Сперанского 1822 г. – с другой [Дамешек 2018: 227-230].
Возрастание внимания правительства и местных властей к инородческому вопросу в Сибири именно в этот период не было случайным. Среди причин, питавших этот интерес, на первое место следует поставить фактор экономический – сокращение ясачных поступлений натурой. Этот вопрос давно беспокоил императорский Кабинет, о чем свидетельствуют непрекращаю-щиеся попытки коронного ведомства изменить ситуацию. Сибирский ясак, являющийся личным доходом императорской фамилии, год от года ощутимо сокращался, а предпринимаемые Кабинетом меры, в т.ч. и введение специальной должности чиновника для наблюдения за «правильным» сбором ясака в 1859 г., не приносили желаемых результатов [Дамешек, Дамешек 2014: 228].
Начавшиеся в конце XIX в. разработка, а затем и реализация налоговой реформы в Сибири, где совладельцами земель выступали казна и императорский Кабинет, имевшие целью «уравнительность и бездоимочность» податных платежей русского и инородческого населения, повлекли за собой необходимость коренного изменения системы административного устройства и управления у коренных жителей. Совокупные податные платежи коренного населения были существенно ниже (в 5–8 раз) крестьянских податей. Поэтому «приравнивание» сословия сибирских инородцев к русскому крестьянскому населению сулило несомненные выгоды казне и Кабинету. Именно поэтому проблема унификации управления русским и коренным населением Сибири и вытекающая отсюда задача уравнивания этих категорией сельского населения в размерах податных платежей приобрели особенную остроту. Еще в 1847 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев, рассуждая о возможности ревизии Устава об управлении инородцев М.М. Сперанского 1822 г., высказался о необходимости распространения на коренных жителей края «действия законов общих»1 [Дамешек, Дамешек 2018: 225].
Наиболее подробные рассуждения на этот счет содержатся в «Описании сибирского края» тобольского (1854–1858 гг.), а в 1858–1862 гг. – калужского губернатора В.А. Арцимовича, составленного ровно 10 лет спустя, в 1857 г. Арцимович был, несомненно, одним из наиболее ярких представителей губернаторского корпуса не только Сибири, но и России в целом [Матханова 2018: 93-94]. Исходя из задач данной публикации, отметим, что для Арцимовича Сибирь – это не только место ссылки закоренелых преступников, но и неотъемлемая часть российского государства. Именно поэтому он предлагал «в видах устройства края», «извлечения из Сибири возможной для государства пользы» и усиления политического значения «русского населения в крае» провести «коренную реформу» управления аборигенами на русификаторских началах1 [Дамешек 2018: 225-226]. В своих воззрениях на судьбы инородцев Арцимович не был одинок. В это же время, но на другом конце Сибири, в Иркутске, в полном соответствии с этими идеями находились и предложения о сравнении по платежу податей сибирских инородцев с русскими крестьянами управляющего сбором ясака в Восточной Сибири, «доверенного» чиновника императорского Кабинета Полонского [Дамешек 2018: 227; Дамешек 1983: 75]. По мнению сибирского чиновничества, планируемые мероприятия должны были способствовать «успешному административному надзору, объявлению правительственных распоряжений, судебных приговоров» и т.д.2 [Дамешек 2018: 226]. Как видим, оба высокопоставленных чиновника признали реальной возможность уравнивания системы управления и податных окладов русского и коренного населения. Будущее народов Сибири прогнозировалось без учета особенностей их социокультурного и экономического развития. В 1876 г. генерал-губернатор Восточной Сибири барон П.А. Фредерикс предложил подчинить инородцев Сибири «общим действующим в России законам, сравнив их права и обязанности с крестьянами», а его преемник А.Л. Ангучин в отчете по управлению краем за 1880–1881 гг. вообще назвал Сибирское учреждение Сперанского «анахронизмом, требующим окончательной отмены!»3. Такой же точки зрения придерживался и приамурский генерал-губернатор А.Н. Корф4.
Таким образом, можно констатировать, что в определенных кругах высшей сибирской администрации сформировалось мнение о необходимости упразднения основных положений Сибирского учреждения М.М. Сперанского 1822 г. Характерно, что именно в это время появилась Программа деятельности генерал-губернатора Восточной Сибири в отношении этого края с 1887 г. приблизительно на 10 лет. Автором этой программы стал вновь назначенный на должность генерал-губернатора А.П. Игнатьев. Этот документ практически не известен российским сибириеведам. Объясняется это тем, что хранится он не в основных архивных фондах РГИА, а в коллекции печатных записок научно-справочной библиотеки архива.
Данная программа, разработанная высокопоставленным администратором, только что получившим звание военного генерал-губернатора, имела целью обратить внимание «высшего правительства» на несоответствие существующей системы управления сибирскими инородцами изменившимся за прошедшие 60 с лишним лет со времени принятия Устава Сперанского (1822 г.) условиям их жизни, развитию капиталистических отношений в хозяйстве коренного населения и выдвижению нарождающейся сельской буржуазии [История Бурятии 2011: 234]. Если программы и предложения губернских властей Сибири по вопросу изменения системы управления инородцами не содержали на этот счет ничего конкретного и отдавали решение вопроса на «откуп» министерским чиновникам, то проект А.П. Игнатьева содержал реальные предложения. Конечную цель своих предложений воен- ный генерал-губернатор формулировал ясно: «обрусение инородцев»1. По времени появление предложения Игнатьева совпало с принятием закона о земских начальниках 12 июля 1889 г.2 На селе создавался новый институт правительственной власти, состоявший преимущественно из помещиков, который имел не только политический, но и идеологический характер. По букве закона, земский начальник становился в сельской местности единоличным интерпретатором закона и обычаев [Реформы в России… 2016: 205]. Достижению этих задач должно было способствовать подчинение аборигенов власти земских начальников. Игнатьев считал, что осуществление этой меры будет «самым практическим» шагом на пути полного подчинения аборигенов русскому законодательству, а в конечном итоге, и их обрусения. Это предложение высокопоставленного чиновника, прозвучавшее при слушании его отчета в Комитете министров, настолько понравилось Александру III, что на полях документа он с восторгом написал: «Да! Весьма пора»3. Желаемое правительству направление реформы было найдено. Начавшаяся работа по трансляции закона 1889 г. о земских начальниках на огромную территорию Сибири растянулась на 10 лет, сопровождалась оживленной перепиской между министерствами внутренних дел, финансов, иными ведомствами и завершилась только в 1898 г. принятием закона о крестьянских и инородческих начальниках Сибири. Всего в четырех губерниях Сибири было введено 107 должностей крестьянских начальников. В 1901 г. действие этого закона было распространено на Забайкальскую область, в шести уездах которой учреждалось 19 должностей новых чиновников4. Институт крестьянских и инородческих начальников в Сибири просуществовал до лета 1917 г., когда и был упразднен решением временного правительства [Дамешек, Мамкина 2021: 226-251; Дамешек 2024].