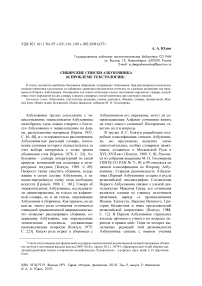Сибирские списки Азбуковника (к проблеме текстологии)
Автор: Юдин Алексей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье изучаются проблемы бытования сборников, содержащих Азбуковник. При рассмотрении нескольких списков памятника в рукописях из сибирских хранилищ предлагается относить их к разным редакциям так называемого Второго Азбуковника. Основанием для такого отнесения служат постоянное окружение словаря, воздействие этого окружения на сам словарь и анализ словарных статей памятника при сличении списков.
Азбуковник, текстология, редакция, список, рукопись, сборник, словарь, ономастикон, максим грек, иоанн экзарх болгарский, иоанн дамаскин, собрание м. н. тихомирова
Короткий адрес: https://sciup.org/14737222
IDR: 14737222 | УДК: 821.161.1'04-97
Текст научной статьи Сибирские списки Азбуковника (к проблеме текстологии)
Азбуковники трудно сопоставить с энциклопедиями, энциклопедизм Азбуковника своеобразен, здесь можно говорить о близости Азбуковника к энциклопедиям по форме, расположению материала [Орлов, 1931. С. 46, 48], и с осторожностью рассматривать Азбуковник как реальный словарь, пополнение словника которого осуществлялось за счет выбора интересных с точки зрения объяснения слов [Карпов, 1878. С. 24]. Азбуковник – словарь литературный по своей природе, возникший как подспорье в литературных штудиях [Ковтун, 1989. С. 49]. Непросто также уместить сборники, содержащие в своем составе Азбуковник, в западно-европейскую схему семи свободных искусств [Громов, 1986. С. 181]. Говоря об энциклопедизме Азбуковника, исследователи ориентировались не только на алфавитный словарь, но и на статьи, окружающие Азбуковник в сборниках. Как правило, но не всегда, такого рода сочинения отличаются очевидной грамматической направленностью, что позволяет рассматривать сборники, содержащие Азбуковник, как определенные тематические комплексы, посвященные языковедческим вопросам [Ковтун, 1975. С. 223]. Какую роль играет в сборниках с
Азбуковником его окружение, могут ли сопровождающие Алфавит сочинения влиять на текст самого словника? Постараемся ответить на эти вопросы.
В трудах Л. С. Ковтун разработана подробная классификация списков Азбуковника, ею предложено выделять «семь самостоятельных, особых словарных памятников, созданных в Московской Руси в XVI–XVII вв.» [Ковтун, 1989. С. 8]. Рукописи из собрания академика М. Н. Тихомирова ГПНТБ СО РАН № 71, 84 и 99 относятся по данной классификации ко Второму Азбуковнику. Старшая разновидность Азбуковника (Первый Азбуковник) создана в русле византийской лексикографии. Составление Первого Азбуковника связано с ученой деятельностью Максима Грека, его сочинения являются одними из главных источников памятника, наряду «с произведениями Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Назианзина и иных представителей византийской патристики» [Ковтун, 1988. С. 12]. В Первом Азбуковнике отразились взгляды афонского ученого на вопросы перевода и правки книг. Одна из четырех выделяемых редакций этой разновидности Азбуковника связана с именем ученика
Максима Грека, Нила Курлятева. Во Втором Азбуковнике почти полностью представлены материалы Первого, однако словотолкование расширено за счет непосредственного обращения к источникам, число статей значительно выросло. Еще больше во Втором Азбуковнике подчеркнута роль Максима Грека в деле создания подобного рода словарей, полностью включено его «Толкование именам по алфавиту» [Там же. С. 15]. При составлении Третьего вида Азбуковника учитывались материалы двух более ранних. В Третьем Азбуковнике помимо увеличения числа статей возросло количество перекрестных ссылок, соблюдается порядок второй буквы слова (гласной) при выписке словника. Имя Максима Грека в Предисловии к Алфавиту не упоминается, хотя материалы из его сочинений активно используются, само Предисловие значительно сокращено и носит практический характер, – объяснение устройства словаря и приемы его использования.
Второй Азбуковник получил наибольшее распространение в русской книжности (более пятидесяти списков) [Ковтун, 1989. С. 9]; из-за огромного количества рукописей, содержащих Второй Азбуковник, его литературная история еще не до конца изучена. В фундаментальных работах Л. С. Ковтун исследуются, согласно ее классификации, краткие азбуковники подготовительного этапа [Ковтун, 1975; здесь же и публикация текстов] и так называемый Первый Азбуковник [Ковтун, 1989; опубликован текст памятника], кроме того, в ряде статей исследовательницы есть упоминания о проделанной работе по выявлению редакций различных типов Азбуковника [Ковтун, 1990. С. 156; упоминание о двух редакциях Третьего Азбуковника]. Некоторые из сибирских списков древнерусского словарного свода наиболее ценны, так как время их написания приближено ко времени создания Второго Азбуковника.
Азбуковник Тих 99, судя по водяным знакам, написан в конце 20-х – начале 30-х гг. XVII в. 1 Перед самим Алфавитом находятся три статьи, часто сопровождающие текст словаря этого типа в других списках. Это одна из редакций Сказания черноризца Храбра «О письменах» (л. 1 – 4 об.), Преди- словие Иоанна экзарха Болгарского к переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина (л. 5 – 8 об.) и Предисловие к Азбуковнику («Ино сказание книзе сей нарицаемей Алфавит, сиречь Азбуковник». Нач.: «Иже от юности во благочестии воспитанному…» 2) (л. 8 – 12 об.).
Рукопись содержит так называемую Федоровскую редакцию Сказания черноризца Храбра. Одна из отличительных особенностей этой редакции – распространенное название памятника [Степанова, 1999. С. 129]. С него и начинается рукопись Тих 99: «Сказание, како состави святый Кирил философ азъбуку по языку словеньску и книги преведе от греческих на словеньский язык». А. Ю. Степанова, исследуя Сказание «О письменах», обращает внимание на то, что окружение словарного свода в некоторых рукописях состоит из Сказания, Предисловия Иоанна экзарха Болгарского и Предисловия к Азбуковнику. (Статью, начинающуюся словами «Ведомо буди…», выделяемую А. Ю. Степановой в качестве самостоятельного произведения, мы склонны считать продолжением Предисловия к Алфавиту.) Федоровской данная редакция названа исследовательницей потому, что именно этот вариант Сказания помещен Иваном Федоровым в острожскую Азбуку 1578 г. [Там же. С. 148]. А. Ю. Степанова выдвигает предположение, что автором этой редакции мог быть сам первопечатник [Там же. С. 153]. Именно Федоровская редакция Сказания, находясь в окружении Второго Азбуковника вместе с Предисловием Иоанна экзарха Болгарского и Предисловием к Алфавиту, «акцентирует, – по словам исследовательницы, – внимание читателей на проблемах перевода, его необходимости и сложности, мастерства и образованности переводчика» [Там же. С. 160].
Что касается Предисловия Иоанна экзарха Болгарского, то для XVII в. философско-богословские аспекты этого произведения не столь популярны среди книжников Московской Руси [Трендафилов, 1998. С. 311], хотя и говорить о применении теории «открытого» перевода [Матхаузерова, 1976. С. 34–37], использовании Предисловия практически также не приходится. Встреча двух переводных теорий в одних сборниках
(«открытой» и грамматической, Иоанна экзарха Болгарского и Максима Грека, сочинения которого активно используются при составлении словника азбуковников) представляется вполне закономерной. Поскольку статьи, окружающие алфавит иностранных речей, посвящены языковедческим проблемам.
Начальные листы и конец Азбуковника Тих 84 утрачены 3. Рукопись начинается с отрывка толкования слова Алфа: «…чески Алфа ищи». При сравнении с Азбуковником из Тихомировского собрания № 99 удается восстановить словарную статью полностью: «Алфа, грецы первое азъбучное писмо на-ричют алфа, еже есть аз, толкует же ся гречески алфа ищи» (Тих 99, л. 13, 13 об.; над словом «алфа» киноварная помета – «г», что указывает на греческое происхождение слова). Л. С. Ковтун проводит такое сравнение с более ранней по времени создания рукописью РНБ, Q.XVI.20 [Ковтун, 1990. С. 147], в которой перед толкующей слово «алфа» статьей идут: «Алфавит», «Аданаи», «Агиос», «Агион», «Агиографа». В Азбуковнике Тих 99 непосредственно перед статьей «Алфа», после «Агиографа» помещена еще одна статья – «Алеф». В любом случае речь идет об утрате небольшого количества статей начала словника на первую букву алфавита. Естественно предположить, что Тих 84 имел в своей начальной части так называемые грамматические статьи. В описании собрания академика М. Н. Тихомирова есть указание на утрату первых трех листов рукописи, тут же отмечено, что «согласно кирилловской нумерации XVII в. утерян 1 лист самого текста» [Тихомиров, 1968. С. 42]. Действительно, на первом сохранившемся листе рукописи проставлен его номер кирилловской цифрой-буквой (2), здесь же синими чернилами арабскими цифрами указано: «1 – 4», такое указание было сделано уже в XX в., чтобы не сбиться при дальнейшем счете (судя по цифири после пятого листа идет сразу восьмой, он же начинает новую тетрадь; отметим также, что цифирь при счете листов продолжается до 23 листа включительно, затем теми же чер- нилами до конца рукописи все листы пронумерованы арабскими цифрами в начертании, характерном для XVIII в.). Все тетради рукописи, исключая первую, пронумерованы, на внешнем листе нижнего форзаца рукой писца отмечено: «В сей книге шездесят тетратей»; в тетради насчитывается по восемь листов, при этом первая тетрадь имеет в своем составе лишь четыре. Таким образом, стоит говорить об утрате 6-го и 7-го листов, а также первых двух, при этом счет листов велся со второго листа первой тетради. На этом втором листе и помещалось утраченное начало Азбуковника. Нахождение всего шести статей, небольших по объему, на целом листе и оборотной его стороне рукописи in quarto объясняется небольшой областью письма (130 × 83 мм) и количеством строк на листе (10). Первый, ненумерованный, лист рукописи мог содержать какой-либо, но не очень большой текст. Ценность реконструкции окружения Алфавита заключается в том, что оно является одним из характеризующих признаков при отнесении того или иного списка Азбуковника к определенной редакции. Всего указывается семь таких текстологических примет. 1. Все другие статьи сборника, окружающие словарный свод с азбучным расположением статей. 2. Заглавие сборника, если он тематический, и заголовок словарного свода. 3. Тип предисловия, предваряющего словарный свод. 4. Вводные замечания к перечню собственных имен (они даются обычно в разделе слов, начинающихся с буквы А). 5. Лексикографические и литературные источники словаря. 6. Состав и порядок словарных статей (учитывается лишь первая буква слова или также идущая за ней гласная, перебивается ли алфавитный принцип тематическим). 7. Характер толкования слов [Ковтун, 1977. С. 96]. В последующей работе исследовательница расширила этот список [Ковтун, 1989. С. 7]. По понятным причинам мы не сможем рассмотреть в своей статье все их подробно.
Остановимся на «Предисловии толкованию имен человеческих», которое обычно находится в заключение словарных статей, начинающихся с буквы А, и непосредственно предшествует перечню собственных имен. Стоит сказать, что в Тих 99 «Предисловие» не предваряет объяснение имен собственных, а заключает его, что произошло по недосмотру писца, о чем он сам ука- зывает («по грехом описанос», л. 30 об.) и сообщает на полях правильное расположение этой предваряющей толкование имен статьи. При сравнении текста «Предисловия» из Тих 99 (л. 28 об. – 30 об.) с «Предисловием» из Тих 84 (43 об. – 47 об.) обнаруживается их явная текстуальная близость. Уже название предваряющей словарик статьи идентично, в обеих рукописях читаем: «Предисловие толкованию имен человеческих, яже зде по буквам писаны». Разночтения в самом тексте несущественны: в одном случае Христовы ученики названы угодниками (Тих 84, л. 44 об.), в другом, при объяснении прозвища византийского императора писец Тих 84 несколько сгладил толкование, убрав одно слово (Тих 84, л. 46 об.).
Но особо стоит отметить само начало Предисловия. В обеих сравниваемых рукописях оно полностью повторяет начальную фразу из Федоровской редакции Сказания черноризца Храбра «О письменах»: «Прежде убо словяне еще суще погани, не имеяху книг, понеже не разумеяху Писания…». Второй Азбуковник, представленный списком Тих 71, имеет более традиционное начало «Предисловия толкованию имен человеческих»: «Прежде закона и в законе, нецыи же по благодати…» (л. 36 об.). Этот вариант предисловия встречается уже в Первом Азбуковнике [Ковтун, 1989. С. 156: публикация текста Первого Азбуковника]. Таким образом, можно отметить, что создание редакции Второго Азбуковника, представленного списком Тих 71, шло отличным от Тих 84 и Тих 99 путем.
Что касается самого словарика имен собственных, то здесь, в Тих 84, в отличие от Тих 99, над многими словами есть указание на то, из какого языка они произошли, но вписаны эти сведения позднее, другими чернилами и другой рукой. Этой же рукой сделаны и исправления в тексте словника, так как иногда писец Тих 84 не понимал отдельные слова в рукописи, с которой делал свой список 4. При сличении списков видно также, что и писец Тих 99 не только пропустил весь текст «Предисловия», вписав его после словаря, но и выпустил некоторые имена, которые ему пришлось дописывать в конце ономастикона. Однако стоит отме- тить, что структура словаря Азбуковника Тих 99 более продумана по сравнению с Тих 84. Так в Тих 84 в разделе на букву В большое место занимают статьи, начинающиеся с фразы «Вопрос. Что есть…» и не имеющие прямого отношения к статьям этого раздела; все они вынесены в Тих 99 за пределы словника. По мнению Л. С. Ковтун, эти статьи в тихомировской рукописи «представляют текст более краткого Азбуковника, или текст дополнений к Азб-2» [Ковтун, 1990. С. 146]. Можно предположить, что вопросные (и не только) статьи были помещены в конец Азбуковника Тих 99 для того, чтобы разгрузить словник, убрав в дополнение наиболее объемные из-за подробных толкований статьи. Видеть в них добавочные словарные разработки, включенные затем в словник, нам не представляется возможным, так как обычно статьи добавлялись к словарным разделам Азбуковника [Ковтун, 1989. С. 38], а не разрывали порядок статей, что видно при сличении Тих 99 и Тих 84. Налицо обратный процесс.
Укажем также на еще один характеризующий признак, выделенный уже А. В. Пруссак, – различие либо схожесть при ссылке на источник словотолкования, обычно помещаемый на полях Азбуковника [Пруссак, 1915. С. 20]. Приводимые отличительные примеры такого рода в Азбуковнике (Втором и Третьем; у А. В. Пруссак, принадлежащих I и II группе соответственно): статья «Не порютится, не разбиется» отнесена к Евангелию от Иоанна, гл. 41; «Не об-ратиши, не обуздаеши», – к Апостолу, гл. 141; «Неключимии, непотребнии», – к Евангелию от Луки, гл. 74 5 (пример дан по списку, принадлежащему сейчас РНБ, собрание М. П. Погодина, № 1145; рукопись содержит Второй Азбуковник). В Третьем Азбуковнике (РНБ, Погод., № 1642) эти статьи отнесены к псалму 36, Апостолу, гл 139 и к Посланию к Коринфянам, гл. 143, соответственно. Показательно, что глоссы к этим статьям совпадают и в Тих 99, и в Тих 84, отличие от Погод 1145 в данном примере в том, что первая статья ссылается в ти-хомировских рукописях на 36-й псалом. Таким образом, можно говорить о принадлежности этих двух рукописей к одной редакции Второго Азбуковника.
Совпадение указанных выше глосс с Погод 1145 обнаруживается в рукописи Тих 71 6. Рукопись, как и Тих 84, дошла до нас не в полном составе (начинается с отрывка толкования слова в разделе на букву А), словник ее заканчивается омегой, окружение также отсутствует. Статья, предваряющая объяснение имен собственных («Предисловие токованию (!) имен человеческих», л. 19 об.), уже по начальным словам заметно отличается от подобных текстов Тих 99 и Тих 84: «Прежде закона и в законе нецыи же по благодати древних родов человецы даяху детем своим имена, якож отец или мати восхощет…» Эта редакция «Предисловия» имеет схожие черты с подобным предуведомлением к словарику личных имен в рукописи Тих 501, содержащей Азбуковник третьего типа. Приведем начальные слова этого предисловия: «Первых родов и времен человецы бывшеи прежде закона и в законе, еще же и в благодати до некоего времене, даяху детем своим имена, якоже отец и мати отрочате изволит…» (л. 23 об.). Однако составитель Третьего Азбуковника значительно сократил «Предисловие толкованию имен человеческих», так же он поступает и с произведением, предваряющим в Тих 501 сам словарь. Речь идет об «Ином сказании книзе сей», которое в Тих 99 тоже находилось непосредственно перед текстом самого Азбуковника. В Тих 501 оно уменьшилось почти вдвое, за счет сокращения числа примеров, объясняемых и в тексте самого словника, обретя, таким образом, сугубо функциональную направленность: объяснение правил пользования словарем. Кроме того, изменилось в Третьем Азбуковнике и само название этого небольшого произведения, теперь оно стало называться «Предисловие Алфавиту иностранных речей». Как известно, Второй Азбуковник послужил основой для создания Третьего Азбуковника, при этом привлекался материал и более ранних типов памятника, изменилась и внутренняя структура словника [Ковтун, 1989. С. 124]. На данном этапе нам трудно с уверенностью говорить о влиянии именно редакции Второго Азбу- ковника, к которой принадлежит рукопись из собрания М. Н. Тихомирова № 71, на создание следующего типа словарного памятника. Выскажем лишь предположение.
«Предисловие Алфавиту иностранных речей» перед текстом Азбуковника, начало которого сходно, за редкими изменениями, с Тих 501, так же как и в случае с вышеперечисленными произведениями конвоя Второго Азбуковника может указывать на определенную редакцию памятника. Если предположить, что Тих 71 (чья редакция «Предисловия толкования имен человеческих» сходна с Тих № 501) в своей начальной части перед словником имела ряд предисловий, и собственно «Предисловие Алфавиту иностранных речей», начинающееся словами «Иже от юности во благочестии воспитанному…», то рукописи, содержащие эти сочинения и имеющие схожие черты в словнике, могут принадлежать одной редакции. Такую схожесть можно обнаружить в томском Азбуковнике из Научной библиотеки университета Витр-758 (см. описание: [Славяно-русские рукописи…, 2007. С. 134; Ромодановская, 1971. С. 345]).
Нахождение в сборниках с Азбуковником второго типа Федоровской редакции Сказания черноризца Храбра «О писменах», Предисловия Иоанна экзарха Болгарского к переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина и Предисловия к Азбуковнику, начинающееся словами: «Иже от юности во благочестии воспитанному…», позволяет сделать лишь предварительные выводы об отнесении списков Алфавита к одной редакции. Именно анализ словарных статей и «Предисловия к толкованию именам по алфавиту» говорит о схожести списков Азбуковника в Тих 84 и Тих 99. К другой редакции, представленной Тих 71, можно отнести Азбуковники НБ ТГУ Витр-758 и Витр-856 [Славяно-русские рукописи…, 2007. С. 230] на основании окружения и начальных статей словника, однако отнесение это носит предварительный характер и требует уточнения и тщательной работы с текстом рукописи. Эта последняя редакция Второго Азбуковника, по нашему мнению, могла послужить основой для составления Третьего Азбуковника.
SIBERIAN COPIES OF THE AZBUKOVNIK (ON THE TEXTOLOGY OF THE BOOK)