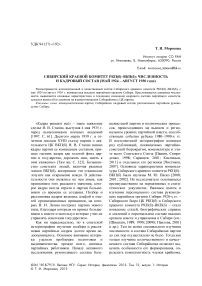Сибирский краевой комитет РКП(б)–ВКП(б): численность и кадровый состав (май 1924 – август 1930 года)
Автор: Морозова Татьяна Игоревна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается количественный и качественный состав Сибирского краевого комитета РКП(б)–ВКП(б), с мая 1924 по август 1930 г. являвшегося высшим партийным органом Сибири. Прослеживается динамика численности, выявляются основные характеристики и тенденции изменения кадрового состава партийного комитета, делается выводоб их влиянии на взаимоотношения Сибкрайкома с ЦК партии.
Коммунистическая партия, сибкрайком, кадровый состав, региональное партийное руководство, сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/147218661
IDR: 147218661 | УДК: 94
Текст научной статьи Сибирский краевой комитет РКП(б)–ВКП(б): численность и кадровый состав (май 1924 – август 1930 года)
«Кадры решают всё» – такое заявление сделал И. В. Сталин, выступая 4 мая 1935 г. перед выпускниками военных академий [1997. С. 61]. Десятого марта 1939 г. в отчетном докладе XVIII съезду партии о деятельности ЦК ВКП(б) И. В. Сталин назвал кадры партии ее командным составом, призвал «ценить кадры как золотой фонд партии и государства, дорожить ими, иметь к ним уважение» [Там же. С. 325]. Большинство советских людей, включая рядовых членов ВКП(б), восприняло эти сталинские лозунги как откровение вождя. В действительности они являлись не чем иным, как признанием того реального значения, которое кадры всегда играли в партии большевиков со времени ее создания. Подбор и расстановка кадров являлись альфой и омегой организационных принципов, на которых В. И. Ленин построил партию нового типа, благодаря которым он привел большевиков к власти и используя которые учил их управлять советским государством.
Как ни парадоксально, но в советской историографии изучение подбора и расстановки партийных кадров долгое время недооценивалось. Основное внимание историки уделяли проблемам подготовки и выдвиженчества, прежде всего, низовых партийных работников. Началу активного исследования руководящего состава боль- шевистской партии и политических процессов, происходивших на высшем и региональном уровнях партийной власти, способствовали события рубежа 1980–1990-х гг. В постсоветской историографии появился ряд публикаций, посвященных партийносоветской бюрократии, номенклатуре и элите всего Советского Союза [Пашин, Свири-денко, 1998; Саранцев, 2001; Кислицын, 2011] и отдельных его регионов [Чистиков, 2007]. Основные характеристики номенклатуры Сибирского краевого комитета РКП(б)– ВКП(б) были изучены М. Ю. Паско [2000; 2001; 2002]. Но исследователь основывался преимущественно на нормативных и статистических документах. Важным шагом в изучении персонального состава руководящих партийных органов Сибири 1920-х гг. – Сибирского бюро ЦК РКП(б) и Сибирского краевого комитета РКП(б)–ВКП(б) – стало появление статей, биографических справок и сведений о персональном составе высших органов власти и управления в Сибири (см.: [Шишкин, 1989; 1990; 2009б; Павлова, 2001] и др.). Тем не менее специального изучения численности и состава Сибкрайкома партии до сих пор осуществлено не было. Тогда как только изучение количественного и качественного состава Сибкрайкома позволит выяснить особенности его формирования, определить компетентность членов крайкома,
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 1: История © Т. И. Морозова, 2013
оценить своевременность и грамотность принятых им решений.
Сибкрайком РКП(б) был создан 11 мая 1924 г. вместо прекратившего свою деятельность Сибирского бюро ЦК. В соответствии с Уставом РКП(б) пленум краевого комитета переизбирался на краевых партийных конференциях. Первая Сибпартконфе-ренция (8–11 мая 1924 г.) избрала 37 членов и 11 кандидатов, вторая (27 ноября – 2 декабря 1925 г.) – 57 и 25, третья (25–30 марта 1927 г.) – 69 и 31, четвертая (25 февраля – 5 марта 1929 г.) – 93 и 32 и пятая (2–10 июня 1930 г.) – 100 и 37 соответственно 1.
Троекратный рост численности пленума краевого комитета, по всей видимости, был обусловлен двумя основными факторами. Во-первых, такая динамика соответствовала увеличению рядов РКП(б)–ВКП(б) на территории Сибири с 38,7 тыс. чел. в 1924 г. до 93,9 тыс. чел. в 1929 г. [Молетотов, 1978. С. 57, 102]. Во-вторых, рост числа местных парторганизаций, произошедший вследствие районирования середины 1920-х гг., а также создание новых краевых хозяйственных структур, руководители которых, как правило, рекомендовались к избранию в краевой комитет, потребовали введения в состав Сибкрайкома большего количества членов.
Выборы, предполагавшие переизбрание всего состава краевого комитета, в сущности, представляли собой утверждение списка кандидатур, заранее подготовленного бюро крайкома. По итогам второй – пятой краевых партконференций только от 22,8 до 40,6 % членов и от 4,0 до 18,8 % кандидатов избирались в комитет повторно, а наибольший процент членов (от 49,3 до 62,4 %) и кандидатов в члены пленума (от 81,3 до 91,9 %) составляли коммунисты, впервые избранные в его состав. Между партийными конференциями бюро крайкома нередко переводило отдельных кандидатов в члены пленума или кооптировало в его состав новых, чаще всего рекомендованных Центром, коммунистов. В результате, за все время деятельности краевого комитета членами и кандидатами в члены его пленума состояли в общей сложности 349 чел.
Анализ персональных данных на членов и кандидатов в члены Сибкрайкома 2 позволяет утверждать, что его состав в основном формировался из трех категорий коммунистов: профессиональных партийных работников, рекомендованных ЦК; руководителей советских, хозяйственных, военных, общественных и иных организаций (так называемых «Сибов»); секретарей сначала губернских, а после 1925 г. – окружных комитетов партии. По мере роста численности краевого комитета в его состав избирались также представители уездных и районных парткомов, производственных и сельских ячеек. Однако их доля оставалась незначительной. Чаще всего именно ответственная должность являлась решающим фактором включения в крайком. Покидая по той или иной причине свой пост, члены и кандидаты в члены краевого комитета, как правило, автоматически выбывали из его состава.
Вторым по значимости критерием избрания в состав Сибкрайкома являлся партийный стаж. Первоначально 41,7 % пленума составляли коммунисты, вступившие в большевистскую партию ранее 1917 г., однако к лету 1930 г. их доля уменьшилась до 11,0 %. Сокращение этой категорий произошло, во-первых, за счет роста численности коммунистов, принятых в партию в годы революции и гражданской войны (с 58,3 до 65,7 %); во-вторых, благодаря последовательному включению в состав крайкома партийной «молодежи», принятой в ряды РКП(б)–ВКП(б) после 1921 г.: от 6,1 % в конце 1925 г. до 22,6 % летом 1930 г.
В результате, к началу 1930-х гг. на смену «старым партийцам» пришли новые кадры, представлявшие собой либо воспитанную новой властью молодежь, либо уже взрослых людей, вступивших в РКП(б) с целью получения соответствующих привилегий. Но в том и в другом случае «молодые» коммунисты были максимально апо-логетичны формирующемуся режиму, что обеспечивало надежную поддержку линии ЦК.
Идеологические установки РКП(б)–ВКП(б), позиционировавшей себя партией пролетариата и беднейшего крестьянства, определили социальный состав ее краевого комитета. Самой многочисленной группой по социальному происхождению среди членов и кандидатов в члены Сибкрайкома неизменно являлись бывшие рабочие, доля которых колебалась в диапазоне от 43,8 до 56,2 %. Коммунисты крестьянского происхождения в разные годы составляли от 18,8 до 32,8 % пленума.
Тем не менее состав краевого комитета был далек от рабоче-крестьянского. Несмотря на постепенное сокращение относительной численности выходцев из интеллигенции, в мае 1924 г. составившей почти четверть членов и кандидатов в члены пленума, в июне 1930 г. эта категория коммунистов составила 15,3 %. Более того, даже последний пятый состав Сибкрайкома, избранный летом 1930 г., включал в себя четверых членов комитета (2,9 %), происходивших из купеческих или мещанских семей. Такое несоответствие пропагандируемым принципам подтверждает второстепенную роль этого показателя для формирования крайкома.
Наличие вопроса о социальном происхождении практически во всех анкетах и личных листках, предлагаемых для заполнения партийным работникам, в данном случае выполняло иную, не менее важную функцию. Высокая степень социальной мобильности в годы революции и гражданской войны, с одной стороны, и политическая конъюнктура 1920-х – начала 1930-х гг. – с другой, привели как к непроизвольной, так и к намеренной подмене понятия «социальное положение» «социальным происхождением». Получившиеся таким образом искаженные данные о социальной принадлежности членов и кандидатов в члены Сибкрайкома позволяли характеризовать комитет как орган, состоявший из представителей двух ведущих классов.
В действительности рабочие и крестьяне, непосредственно занятые на производстве и в сельском хозяйстве, конечно, не могли вести систематическую партийную работу. Поэтому доминирующие позиции в составе краевого комитета на всем протяжении его существования оставались за служащими: 91,7 % – в мае 1924 г., 92,7 – в декабре 1925, 85,0 – в марте 1927, 73,6 – в марте 1929 и 74,5 % – в июне 1930 г. Следовательно, вовлечение в краевой партаппарат «рабочих от станка» и «крестьян от сохи»
отчасти, конечно, обеспечивалось за счет сокращения доли служащих. Однако в большей степени реализации этой политики способствовало последовательное увеличение общей численности пленума краевого комитета.
Аналогичная закономерность прослеживается и в отношении национального состава Сибкрайкома: чем многочисленнее становился пленум, тем более разнородным являлся его национальный состав. Так, наряду с русскими, украинцами, евреями, латышами и поляком, входившими в Сиб-крайком весной 1924 г., в дальнейшем в его состав были избраны также представители белорусов, бурят, хакасов, немцев, эстонцев и алтайцев. В общей сложности в разные годы краевой комитет включал представителей 12 национальностей и народов, что отвечало заявленному большевиками интернационализму. В то же время такое расширение национального состава происходило на фоне явного преобладания русских, доля которых к лету 1930 г. достигла 73,7 % всего состава.
Социальный и национальный составы, в свою очередь, коррелировались с уровнем образования членов и кандидатов в члены Сибкрайкома. Преобладание в составе пленума выходцев из рабоче-крестьянской среды и наличие представителей национальных меньшинств обусловили высокий процент коммунистов, имевших только начальное или даже домашнее образование. С декабря 1925 по июнь 1930 г. в своей совокупности эти показатели практически не претерпели изменений, составив 75,6 и 75,9 % соответственно. Незначительное увеличение доли членов и кандидатов в члены краевого комитета со средним и неоконченным средним образованием (с 17,1 до 18,2 %) было полностью сведено на нет сокращением относительной численности коммунистов с высшим и неоконченным высшим образованием (с 7,3 до 5,8 %).
Приведенные цифры были заметно выше общесибирских показателей 3, но уступали статистическим данным по номенклатуре краевых учреждений в целом 4. Отсутствие положительной динамики, вероятно, объяс- нялось тем фактом, что невысокий уровень подготовки членов и кандидатов в члены крайкома вполне отвечал интересам формировавшегося режима. Начальное образование позволяло входившим в Сибкрайком коммунистам справляться с поставленными задачами и одновременно определяло преобладание типа работников, подходящих, прежде всего, на роль исполнителей спущенных сверху директив.
Адаптацией политики Центра применительно к местным условиям, принятием основных решений и подготовкой резолюций, впоследствии обычно только утверждаемых пленумом, занималось бюро краевого комитета. Несмотря на формальную выборность этого органа из состава пленума крайкома, члены и кандидаты в члены бюро не только в обязательном порядке рекомендовались ЦК РКП(б)–ВКП(б), но и, как правило, специально присылались в Сибирь из других регионов СССР.
Серьезность стоящих перед бюро задач и закрепившаяся в 1920-е гг. практика секретного делопроизводства обусловили относительную стабильность численности этой структуры, включавшей от восьми членов и двух кандидатов в члены в мае 1924 г. до 13 членов и трех кандидатов в июне 1930 г. Однако эту группу нельзя назвать закрытой. В совокупности за шесть лет в бюро входили 53 чел., из которых только семеро проработали более трех лет (подсчитано по: [Шишкин, 2009б. С. 686–688]).
Такая «текучесть» кадров объяснялась двумя основными причинами. Во-первых, для 1920-х гг. в целом была характерна практика постоянных кадровых перебросок, с помощью которых ЦК пытался решить проблему недостатка ответственных работников, а также предотвратить конфликты и появление местнических настроений. Во-вторых, представители краевого партийного руководства были подвержены вертикальной мобильности. Положительно зарекомендовавшие себя работники время от времени отзывались в Москву в связи с назначением на более высокие посты, а не оправдавшие доверия Центра, напротив, переводились на менее ответственную хозяйственную работу.
В отличие от пленума Сибкрайкома бюро формировалось исключительно из партийных служащих, как правило, возглавлявших краевые организации, их наиболее значимые отделы, губернские или окружные партийные комитеты региона. Так, например, в мае
1924 г. членами бюро были утверждены бывший секретарь Сиббюро ЦК РКП(б) С. В. Косиор, председатель Сибревкома М. М. Лашевич, его заместитель Р. И. Эйхе, председатель Сиббюро ВЦСПС Ю. П. Фи-гатнер, полномочный представитель ОГПУ по Сибири И. П. Павлуновский, бывший заведующий орготделом Сиббюро ЦК Н. В. Рогозинский, бывший заведующий агит-пропотделом Сиббюро ЦК Б. Д. Пинсон и секретарь Новониколаевского губкома П. С. Заславский.
Наряду с бюро, в апреле 1925 г. по решению пленума крайкома «для внутренней и подготовительной работы» был создан секретариат краевого комитета 5. Состав новой структуры не превышал шести – семи человек, кандидатуры которых согласовывались с Центром, после чего утверждались на бюро Сибкрайкома.
Сопоставление персональных составов бюро и секретариата краевого комитета свидетельствует о том, что если в середине 1920-х гг. они совпадали только частично, то летом 1930 г. все семь членов секретариата одновременно были избраны в бюро Сибкрайкома. Следовательно, решения двух формально разных структур фактически принимались одними и теми же людьми.
В целом, несмотря на фактический рост числа высших партийных руководителей Сибири, представленных членами и кандидатами в члены бюро и секретариата крайкома, их доля в составе пленума краевого комитета, напротив, последовательно сокращалась. Так, в мае 1924 г. она составила 22,7 %, в декабре 1925 г. – 18,3, в марте 1927 г. – 16,0, в марте 1929 г. – 14,4 и в июне 1930 г. – 11,7 %. Соответственно, решение всех принципиальных вопросов неизменно оставалось за узкой группой высших партийных руководителей, рекомендованных Центром и чаще всего не имевших сибирских «корней».
Заметное увеличение представительства рабочих, крестьян и национальных меньшинств в составе пленума краевого комитета, ставшее возможным за счет троекратного роста его численности, носило скорее популистский характер. Включение этих категорий в состав Сибкрайкома являлось скромным по своим результатам воплоще- нием в жизнь идеологических установок РКП(б)–ВКП(б).
В действительности на всем протяжении своего существования Сибкрайком состоял преимущественно из членов партии, не склонных в силу многих факторов к отстаиванию или вообще не имевших собственной позиции. В еще большей степени усилению зависимости краевого комитета от политики ЦК способствовало произошедшее к концу 1920-х гг. увеличение в его составе доли конформистски настроенных к действующей власти «молодых» коммунистов. В результате, к началу 1930-х гг. ЦК ВКП(б) получил возможность осуществлять достаточно успешный контроль над партийным руководством края, представители которого в большинстве своем строго следовали директивам вышестоящих органов.
Список литературы Сибирский краевой комитет РКП(б)–ВКП(б): численность и кадровый состав (май 1924 – август 1930 года)
- Кислицын С. А. Контрэлиты, оппозиции и фронды в политической истории России. М., 2011. 512 с.
- Молетотов И. А. Сибкрайком: партийное строительство в Сибири. 1924-1930 гг. Новосибирск, 1978. 368 с. Павлова И. В. Роберт Эйхе//Вопр. истории. 2001. № 1. С. 70-88.
- Паско М. Ю. Номенклатура Сибирского краевого комитета РКП(б)-ВКП(б) во второй половине 1920-х годов: численность и состав//Сибирь в XVII-XX веках: проблемы политической и социальной истории: Бахрушинские чтения 1999-2000 г.: Межвуз. сб. науч. тр./Под ред. В. И. Шишкина. Новосибирск, 2002. С. 120-131.
- Паско М. Ю. Партийность и партийный стаж номенклатуры Сибирского краевого комитета РКП(б)-ВКП(б) (1924-1930 гг.)//Материалы XXXIX Междунар. науч. студ. конф. «Студент и научно-технический прогресс»: История. Новосибирск, 2001. С. 147-149.
- Паско М. Ю. Уровень образования номенклатуры Сибирского края (вторая половина 20-х гг. XX в.) Материалы XXXVIII Междунар. науч. студ. конф. «Студент и научно-технический прогресс»: История./Под ред. В. И. Шишкина. Новосибирск, 2000. Ч. 2. С. 112-114.
- Пашин В. П., Свириденко Ю. П. Кадры коммунистической номенклатуры: методы подбора и воспитания. М., 1998. 243 с.
- Саранцев Н. В. Большевистская властвующая элита: возникновение, становление и трансформация, 1900-1939. Саратов, 2001. 259 с.
- Сталин И. В. Соч. М., 1997. Т. 14. 361 с.
- Чистиков А. Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-запада Советской России 1917-1920-х годов. СПб., 2007. 294 с.
- Шишкин В. И. «Сибирский Ленин»//ЭКО. Общественно-политический и научно-теоретический журнал. Новосибирск, 1989. № 10 (182). С. 119-130.
- Шишкин В. И. Председатель сибирского Совнаркома//Сибирские огни. Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1990. № 2. С. 122-134.
- Шишкин В. И. Лашевич Михаил Михайлович//Историческая энциклопедия Сибири/Под ред. В. А. Ламина. Новосибирск, 2009а. Т. 2. С. 266.
- Шишкин В. И. Персональный состав высших советских органов власти и управления в Сибири (1919-30): Сибирский краевой комитет РКП(б)-ВКП(б)//Историческая энциклопедия Сибири/Под ред. В. А. Ламина. Новосибирск, 2009б. Т. 3. С. 686-688.