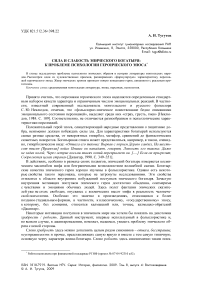Сила и слабость эпического богатыря: к проблеме психологии героического эпоса
Автор: Тугутов Алексей Иосифович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются проблемы психологии эпических образов в истории литературы монгольских народов. Рассмотрен один из художественных приемов, расширяющих «формулярную» характеристику персонажей героического эпоса. Жанр эпических хроник приносит новую концепцию героя, связанного с реальным прототипом.
Средневековая монгольская литература, эпика, персонаж, психология
Короткий адрес: https://sciup.org/14737118
IDR: 14737118 | УДК: 821.512.36+398.22
Текст научной статьи Сила и слабость эпического богатыря: к проблеме психологии героического эпоса
Принято считать, что персонажи героического эпоса наделяются определенным стандартным набором качеств характера и ограниченным числом эмоциональных реакций. В частности, известный современный исследователь монгольского и русского фольклора С. Ю. Неклюдов, отмечая, что «фольклорно-эпическое повествование бедно описаниями эмоционального состояния персонажей», выделяет среди них «страх, грусть, гнев» [Неклюдов, 1984. С. 109]. Соответственно, не отличаются разнообразием и психологические характеристики персонажей.
Положительный герой эпоса, олицетворяющий народные представления о защитнике добра, неизменно должен побеждать силы зла. Для характеристики богатырей используются самые разные средства, от невероятных гипербол, метафор, сравнений до фантастических сюжетных поворотов. Богатырская отвага может представляться, например, в таком, очевидно, гиперболическом виде: « Отвага его такова: Вырвав с корнем Дерево сандал, На шестьсот тысяч [Вражьих] войск Пешим он нападает, говорят, Ловкость его такова: Даже не задев ногой, Через острие восьми тысяч копий перепрыгнет он. [….] Если он пригрозит, Содрогнется целая страна » [Джангар, 1990. С. 349–351].
В действиях, особенно в размахе своих подвигов, эпический богатырь измеряется космическим масштабом мифа или безграничными возможностями волшебной сказки. Богатырские качества эпического героя хорошо изучены в фольклористике. Однако есть некоторые свойства такого персонажа, которые не затронуты исследованиями. Эти свойства относятся к области внутренних побуждений поступков эпического богатыря. Зачастую внутренняя мотивация поступков эпического героя достаточно обыденна, соизмерима с чувствами и эмоциями обычных людей. Здесь полет фантазии эпических сказителей уже не столь свободен, опускаясь с космических высот мифа в реальность человеческой психологии. Особенно это заметно в произведениях, относящихся к более поздним стадиальным формам, в частности, к классическому, «государственному» эпосу, к которому, без сомнения, относится калмыцкий или, точнее, калмыцко-ойратский «Джангар».
Некоторые мотивации поступков в эпическом мире мы хотели бы показать на дихотомии храбрость / робость . Данный инструмент, впервые используемый в фольклористике и, во всяком случае, в джангароведении, поможет, надеемся, увидеть проблему эпического образа с новой стороны.
Слово храбрость здесь можно дополнить целым рядом синонимов – отвага, бесстрашие, неустрашимость и прочее, представляющих самую яркую и вместе с тем самую типичную, основную черту характера воина-богатыря. Слово робость здесь синонимично таким поня-
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 07-04-92310 а/G).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 4: Востоковедение © А. И. Тугутов, 2009
тиям, как страх, трусость, боязливость, дополняющим характеристику свойств, противоположных богатырскому психологическому комплексу.
Страх или робость может охватывать не только отрицательных персонажей, но и самых смелых, самых могучих эпических богатырей. Это не умаляет привлекательности образов богатырей. Указанные эмоциональные состояния обычно бывают представлены в контексте несомненного мужества и храбрости народных героев и показываются как минутная слабость, неизбежно преодолеваемая ими. Периоды эмоциональнопсихологической слабости богатырей обусловливаются определенными художественноконцептуальными задачами повествования и несут на себе ту или иную сюжетносодержательную нагрузку.
Богатырская храбрость – особое состояние. Она проявляется уже во внешнем виде персонажа: у Хонгора « Вздулись жилы на лбу, Став толщиной с рукоять плети, Горячее его сердце Забилось в груди, Двенадцать отваг Стали [грудь] распирать, десять белых пальцев сжались в кулак » [Джангар, 1990. С. 214]. « Двенадцать отваг », распирающие богатырскую грудь, повторяются в тексте «Джангара» как один из формулярных эпических мотивов, относясь к разным героям – к Джангару, Хонгору, Мингъяну, Саналу [Там же. С. 214, 218, 241, 247, 273–274, 291, 305 и др.].
Проявления робости описываются гораздо реже. Одно из наиболее развернутых описаний относится к самому могучему и смелому богатырю – Хонгору. Он во власти смятения перед поединком с Баатр Хара Джилган-ханом: « Восемь тюменов воинов, Снаружи дворец [Джил-ган-хана. - А. Т.] окружив, Днем и ночью стоят, как воткнутые пики. [Хонгор] задумался: «Как вступить в схватку С таким могущественным человеком Подобному мне человеку? […] Роняя чистые слезы, [как] аршан, сокрушается он: «Если поеду вперед, Убьет меня этот хан. Если обратно вернусь, Славный Джангар-нойон-богдо Меня простыдит » [Там же. С. 246]. Хонгор решил положиться на судьбу: « И снова задумался, плача. Будь что будет, доеду » [Там же]. Проникнув ночью во дворец Джилган-хана, Хонгор обретает состояние храбрости, лишь выпив арзы – молочной водки. И тогда « Горячее его сердце забилось в груди, Двенадцать отваг Стали грудь распирать, десять белых пальцев Сжались в кулак. “Если высохнуть [суждено] - так лишь горсти моих костей! Если пролиться [суждено] - так лишь чаше крови моей!” - подумав...» [Там же. С. 247].
Савар Тяжелорукому не единожды пришлось испытать страх при погоне за похитителями девятитысячного табуна кроваво-рыжих скакунов: « раненый в спину… в испуге Пустился бежать», «Все шестеро [врагов] шестигранными Сандаловыми копьями Угрожали жизни его. [Савар] в испуге бросился бежать » [Там же. С. 363–364]. Страх он преодолевает, вспомнив о неминуемом наказании, которому подвергнет его Джангар: « А в гневе Славный [Джангар]-богдо Свяжет и плетью насмерть забьет, Это страшный позор На тысячу веков » [Там же. С. 365–366]. Мотив наказанья за провинность в службе напоминает о воинских уставах средневекового монгольского и более позднего калмыцкого права. В памятнике 1640 г. «Цааджин бичиг» указано: «Тот же, кто увидит или услышит о нападении и не станет преследовать врага, пытаясь отбить табун, сурово наказывается, вплоть до конфискации половины имущества» [Леонтович, 1879. С. 75–77]. Перекличка «Джангара» с реально существовавшими правовыми нормами интересна сама по себе. Однако еще более характерно, что конкретно-исторический мотив возникает в связи с показом внутренних побуждений персонажа.
Богатыри не всегда охотно соглашаются выполнить поручение своего повелителя Джан-гара. Санал Смуглолицый пытается отказаться от посольской поездки к хану Кюдер Зарин Зан-тайджи: « проливая чистые слезы, [как] аршан, сказал [...] Есть же львы-богатыри посильнее меня, Пошлите кого-нибудь из них » [Джангар, 1990. С. 304]. Он ссылается на свое одиночество, как и Прекраснейший в мире Мингъян, который неоднократно пытается отказаться от боевых поручений Джангара: «…почему на чужбину далекую Вы меня посылаете одного? Вот что значит одиноким быть? » [Там же. С. 291].
Во всех случаях проявления слабости богатыри способны преодолеть ее, победив сначала собственные сомнения или страх, а затем одолев и врага. В этом главное отличие положительных персонажей эпоса от отрицательных.
Показ богатыря в дихотомическом единстве храбрости / робости – необходимый, важный элемент такой специфической художественной системы, как героический эпос. В его идеальный эпический мир привносятся некоторые черты противоречивости реального мира. Кроме того, это расширяет повествовательные возможности эпоса, позволяя обострять напряженность сюжета, придавать ему занимательность. Рассматриваемая дихотомия может экспонировать будущие события, выступая то в качестве препятствия, тормозящего ход повествования, то, наоборот, обостряющего его. Этот мотив приносит конфликтность, драматизм в размеренное течение эпического повествования. Здесь важно то, что драматизм является не только внешним, событийным, но и внутренним, психологическим фактором, поскольку конфликты идут не только между разными героями, но и внутри души одного персонажа. Понятно, что все это обогащает образы самих богатырей, придавая им некоторую объемность.
Следующим шагом в развитии эпического образа может являться уже более очевидное дистанцирование от героического пафоса. Примером этого является известная сцена из письменного монгольского памятника начала XIII в. «Монголын нууц товчоо» («Сокровенного сказания монголов»), в которой Джамуха запугал своего союзника Таян-хана эпическими восхвалениями войска, богатырей и самого Чингис-хана. Напуганный этими словами Таян-хан, не принимая боя, отступал все выше в горы и в панике погубил свое войско и сам, обессиленный, попал в плен [Монголын нууц…, 2000. § 195–196]. Таян-хан здесь предстает носителем эпического мышления, а Джамуха – человеком, насмехающимся над этой его несвободой от стереотипов. Здесь показан кризис эпического сознания. От дихотомии храбрость /робость остался только страх. Хотя, тем не менее, в мире «Нууц товчоо» есть место для героического. Но оно реализуется в условиях реального историзма, где противоречия носят более сложный, часто не вмещающийся в рамках дихотомий, характер.
Интересно, что в монгольской эпической хронике XVII в. «Алтан товч» («Золотое сказание») Лувсанданзана (варианты русскоязычного написания – «Алтан тобчи» Лубсан Данзана) снова можно встретить примеры использования рассмотренной нами дихотимии. Чу Мэргэн – один из сподвижников Чингис-хана – робеет при виде врагов-тайчуудов и приходит в себя лишь после внушения хана. Об этом Чингис-хану говорит сам Чу Мэргэн : «Малодушен я был, испугался и бросился бежать. Ты меня позвал, наставил и побранил; я, неразумный, приду и дарованную моим владыкой судьбу-свободу не утрачу» [Лубсан Данзан, 1973. С. 119–120]. Мотивация, сходная с чувствами Хонгора и Савра Тяжелорукого из «Джангара», обретающих смелость лишь при мысли о немилости или наказания со стороны их властителя. Вообще «Алтан товч» совмещает в себе черты поэтики архаической эпики (героического эпоса) и исторической прозы, присутствующей уже в «Сокровенном сказании». Благо в «Алтан товч» включен без особых корректур значительный массив текста «Нууц товчоо».
Таким образом, можно говорить об определенном парадоксе литературного процесса. Поэтика «Сокровенного сказания» – более раннего произведения монгольской словесности – типологически ближе к литературе нового времени, чем более поздние «Джангар» и «Золотое сказание». Однако тенденция, проявившаяся в «Сокровенном сказании», побеждает в последующем развитии национальной литературы, приводя, в том числе, к более разнообразным психологическим характеристикам персонажей.
THE BRAVERY AND COWARDICE OF THE EPIC PERSON: TO THE PROBLEM OF PSYCHOLOGY OF THE HEROIC EPOS