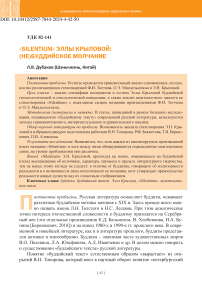«Silentium» Эллы Крыловой: (не)буддийское молчание
Автор: Дубаков Л.В.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Современное литературоведение: идеология и поэтика
Статья в выпуске: 4 (29), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. В статье проводится сравнительный анализ одноименных, но сущностно различающихся стихотворений Ф.И. Тютчева, О.Э. Мандельштама и Э.Н. Крыловой. Цель статьи - анализ специфики восприятия в поэзии Эллы Крыловой буддийской гносеологической и онтологической концепции, а также анализ межтекстового диалога ее стихотворения «Silentium» с имеющими схожие названия произведениями Ф.И. Тютчева и О.Э. Мандельштама. Методология (материалы и методы). В статье, написанной в рамках большого исследования, посвященного «буддийскому тексту» современной русской литературы, используются методы герменевтического, интертекстуального и сравнительного анализа. Обзор научной литературы по проблеме. Возможность анализа стихотворения Э.Н. Крыловой в избранном ракурсе подготовлена работами В.Н. Топорова, Р.Ф. Бекметова, Т.В. Бернюкевич, П.В. Алексеева. Результаты исследования. Выявляется, что, хотя каждое из анализируемых произведений имеет название «Silentium» и хотя между ними обнаруживаются определенные межтекстовые связи, на уровне проблематики они различны.
Буддизм, буддийский текст, элла крылова, «silentium», межтекстовые связи
Короткий адрес: https://sciup.org/144163255
IDR: 144163255 | УДК: 82-141 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-4-42-50
Текст научной статьи «Silentium» Эллы Крыловой: (не)буддийское молчание
П остановка проблемы . Русская литература осмысляет буддизм, осваивает различные буддийские мотивы начиная с XIX в. Здесь прежде всего можно назвать имена Л.Н. Толстого и Н.С. Лескова. При этом акматические точки интереса отечественной словесности к буддизму приходятся на Серебряный век (это отдельные произведения К.Д. Бальмонта, В. Хлебникова, И.А. Бунина [Бернюкевич, 2018]) и на конец 1980-х и 1990-е гг. прошлого века. В современной и новейшей литературе, как и в литературе прошлого, буддизм представлен активно и многообразно. Буддизм – значимая часть художественных миров В.О. Пелевина, Л.А. Юзефовича, А.Л. Иванченко и др. В целом можно говорить о существовании «буддийского текста» русской литературы.
Понятие «буддийский текст» естественным образом «вырастает» из открытий В.Н. Топорова, который ввел в научный оборот понятие «петербургский текста русской литературы [Топоров, 1995]. Структурно-семиотический подход, использованный Топоровым, позднее был применен также к религиозной сфере. Например, П.В. Алексеев проанализировал мусульманский текст русской литературы в поэтике романтизма 1820–1830-х гг. [Алексеев1, 2006], Р.Ф. Бекметов – буддийский текст как часть ориентального дискурса в истории русской литературы [Бекметов, 2018]. Буддийский текст новейшей литературы, в частности, пишется прозой и стихами. В поэзии буддийские мотивы можно обнаружить, например, в творчестве Э.В. Лимонова, Е.А. Шварц, А.А. Макушинского.
Отдельного рассмотрения в аспекте буддийского текста литературы последних десятилетий заслуживают также стихотворения поэтессы Э.Н. Крыловой. Ее восходящее к петербургской поэтической традиции многообразное и объемное стихотворное и прозаическое творчество, по выражению А. Карпенко, может быть охарактеризовано как срединный путь [Карпенко, 2012] между противоположными явлениями бытия, например, между земной и небесной жизнью, религией, преображающей мир, и религией, мир отвергающей, аскезой и вольностью, между оптимизмом и пессимизмом в отношении к происходящему и т.д. Э.Н. Крылова – поэт широкого культурного окоема, в который свободно вмещаются религиозная философия и подробности быта, сострадание к дальним и раздражение по поводу родных. Одна из главных интенций ее творчества последних лет – приуготовление к смерти и надежда на любовную встречу с ушедшими близкими.
В представленной статье осуществляется анализ специфики восприятия в поэзии Эллы Крыловой буддийской гносеологической и онтологической концепции, также производится анализ межтекстового диалога ее стихотворения «Silentium» с одноименными произведениями Ф.И. Тютчева и О.Э. Мандельштама. В статье используются методы герменевтического, интертекстуального и сравнительного анализа.
Цель статьи – анализ специфики восприятия в поэзии Эллы Крыловой буддийской гносеологической и онтологической концепции, а также анализ межтекстового диалога ее стихотворения «Silentium» с имеющими схожие названия произведениями Ф.И. Тютчева и О.Э. Мандельштама.
Методология (материалы и методы). В статье, написанной в рамках большого исследования, посвященного буддийскому тексту современной русской литературы, используются методы герменевтического, интертекстуального и сравнительного анализа.
Обзор литературы по теме . Буддизм для Э. Крыловой – важная часть ее поэзии, но, кроме того, он стал и частью ее мировоззрения. Литературовед Э. Ни-кадем-Малиновская написала об этом так: учение Будды оказалось «близко ее жизненной философии» [Никадем-Малиновская], а поэт и критик А. Балтин – что «дзен-б уддизм увлек Эллу Гремяку еще в юности и со временем вошел
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
в ее плоть и кровь, стал стилем жизни, способом мировосприятия» [Балтин]. При этом говорить о том, что Э.Н. Крылова – буддистка, вряд ли все же однозначно возможно. В ее поэзии проявляется скорее синкретическое и суперэкуменическое мировоззрение. В ее стихотворениях можно увидеть наличие, совмещение, смешение концепций, отдельных идей, мотивов буддизма и христианства. Крыловский буддизм представляет собой вольное осмысление этой религии, принимающее его догматику частично. Часто она видит буддизм сквозь христианскую оптику: так, в Будде она настойчиво обнаруживает черты Христа (равно как и наоборот), буддийское учение пытается скорректировать на основе христианских представлений (и опять же – наоборот). В целом в своем поэтическом творчестве она стремится сблизить две великих религии, подчеркивая сходство их этических позиций и выявляя их мистическое совпадение.
Одна из буддийских концепций, что часто оказывается в фокусе крыловского внимания и что при этом является понятой ею по-своему, – концепция циклического существования. Эту концепцию она воспринимает как буддийскую, но с поправкой на свое синкретическое и суперэкуменическое мировоззрение. Так, при наличии несомненных буддийских маркеров буддийский контекст стихотворений, циклическое существование у Крыловой – не столько обновляющийся в бесконечном кружении поток дхармочастиц сознания, сколько «перерождение» души, которая стремится к раю, будучи очарованной земной жизнью, но и готовой с нею расставаться. Циклическое существование у Крыловой также является метафорой, что раскрывает особенности характера ее лирической героини, закономерности ее судьбы, «повороты» ее жизни в различных временах и культурах.
Результаты исследования . Цикл стихотворений «Стихи о Японии» (2020) сконцентрирован на другой буддийской концепции – концепции спасения. В этом цикле лирическая героиня пребывает в воображаемом путешествии по Стране восходящего солнца, которая оказывается больше самой себя в том смысле, что оборачивается запредельным пространством. Япония у Крыловой представлена в образе красивого, поэтичного и поэтического сада («Там вишен подвенечные наряды – // лекарство от тоски по чистоте» [Крылова, 2020]); в образе священных пространств, просветляющих мир вокруг себя («…в иероглифах багряных кленов / записана душе благая весть – // парадоксальный дзэн!», «…колокол на пагоде в Киото / незыблемым прощением звенит» [Крылова, 2020]); в образе кладбища, выводящего на мысль о скоротечности земного бытия и о благости буддийского посмертия («…верю я: в раю Амиды / мы встретимся, а может быть, в раю / Христа» [Крылова, 2020]. Лирическая героиня Крыловой путешествует по Японии, которая оказывается вариантом Западного рая будды Амиды. Она созерцает земной мир и небесных сущностей и устремляется в Чистую землю Сукхавати, также одновременно пребывает в Подмосковье и в Японии, проецируя свое сознание на образы буддийских монахов и монахинь, деревьев, что растут рядом с храмами, насекомых, которые летят навстречу небу.
Наконец, Э.Н. Крылова в своих стихотворениях размышляет о специфике буддийской гносеологии и онтологии. В русской литературе существует несколько стихотворений с названием «Silentium». Наиболее заметные из них – это «Silentium!» Ф.И. Тютчева (1830) и «Silentium» О.Э. Мандельштама (1910, 1935). При этом, как верно заметила Д.И. Черашняя, говоря о классических тютчевском и мандельштамовском текстах, «по существу в двух стихотворениях с почти одинаковым названием говорится о разных предметах. Тютчев решает проблему философскую (соотношение мысли и слова), трагически ощущая невозможность для себя лично выразить в слове мысль о своем душевном мире и быть понятым Другим. Мандельштам же говорит о природе лирики, об изначальной связи музыки и слова, отсюда – иная проблематика в его отношении к своему слову и к другому человеку» [Черашняя, 2009].
В 2012 г. Э.Н. Крылова опубликовала стихотворение с тем же названием, и так или иначе оно вступает в диалог с тютчевским и отчасти с мандельштамовским текстами. Е.И. Зейферт так обозначает подтемы «Silentium!» Тютчева: согласно поэту, человек обладает огромной внутренней вселенной со своим ландшафтом; внутренняя и внешняя вселенные исходят из Бога, также сокрытого в человеке; лирический герой стихотворения живет романтическим двоемирием, романтическим культом природы, романтическим одиночеством; его волнует «возмож-ность/невозможность выражения “невыразимого”» и проблема коммуникации с Другим [Зейферт, 2022, с. 52]. Магистральная же тема «Silentium» Мандельштама - это «творчество, и в крупном фокусе - одна из точек диалектического процесса рождения высокохудожественного произведения» [Зейферт, 2022, с. 53].
«Silentium» Э. Крыловой - металирическое по сути стихотворение. Как Тютчев, что «приводит читателя к зоне тишины – единственно возможным корням творчества» [Зейферт, 2022, с. 54], и Мандельштам, что «одновременно пишет о рождении лирического стихотворения и лирики вообще, создавая свое произведение как сферу в сфере, показывая одну историю рождения, совпадающую с другой» [Зейферт, 2022, с. 53], она размышляет об источнике, характере, процессе и пределе словесного, литературного творчества.
Э.Н. Крылова противопоставляет искусство человека искусству Творца: человек бессилен создать по-настоящему живое и новое, потому что сам он не оригинален, так как является только подобьем Творца и вращается в реальности, облеченной в привычные концепты: человек воспринимает и «создает» не живые и новые «леса и горы, птиц, зверей» [Крылова, 2012], но лишь их устоявшиеся словесные проекции, – и проявленный в древних стихотворных размерах ритм также не может оживить эти слова и эту реальность, поскольку он устарел.
Крыловское стихотворение отсылает к чань-буддийской притче о том, как Будда Шакьямуни произнес перед Своими учениками проповедь, не используя слов и лишь держа перед ними цветок. Эта проповедь - буддийский урок о вне-концептуальной природе истинной реальности и о внеконцептуальном способе передачи знания: «...и вместо проповеди долгой / с улыбкой показал цветок»
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
[Крылова, 2012]. При этом нужно отметить, что хотя Будда показал ученикам цветок, Он мог показать им и любой иной предмет, равно как и ни показать никакого: представляется, что для буддизма здесь важен не конкретный феномен (ибо любой из них иллюзорен в том смысле, что лишен своебытийности), но значим сделанный Буддой акцент на особой иллюзорности концептуальной реальности.
Как и для Ф.И. Тютчева, для Э.Н. Крыловой «мысль изреченная есть ложь», но эта ложь существует для нее на фоне правды – истины божественного творчества (или неупомянутого в стихотворении Слова), которое воплощено не в человеческих словах, а в растениях и живых существах – в их плоти и их духе: «Взамен романов, од – ромашки / цветут на письменном столе», «дух в каждом расцветет в свой срок» [Крылова, 2012]. Интересно, однако, что в первой строке стихотворения с точки зрения буддизма на самом деле не только не происходит сущностной замены: роман и ромашка суть одинаковые феномены, равно не существующие объективно, – но и формально ничего не меняется: их названия восходят к одному корню – Риму. Таким образом, молчание Будды и молчание крыловского «Silentium» имеют не совпадающий полностью смысл.
Е.И. Зейферт пишет, что «процесс создания художественного произведения неизменно переживает три стадии: молчание (дословесная фаза) – говорение (словесная фаза) – молчание (послесловесная фаза). На первой стадии молчит, настаивается «дословесное», на второй – словами вычерпывается рожденное на дословесной фазе произведение, на третьей – красноречиво молчит «послесло-весное», не сказанное автором и воображаемое читателем» [Зейферт, 2022, с. 53]. Как и О.Э. Мандельштам, Э.Н. Крылова задумывается о молчании поэта, но, в отличие от мандельштамовского текста, указывающего на необходимость своевременного, созревшего перехода от дословесной стадии к двум последующим, она предлагает осуществить «скачок» сразу к третьей стадии, где смысл внутренне сотворенного, порожденного обретается вне слов, посредством «интуитивного прозрения» [Зейферт, 2017, с. 8].
Выводы. Э.Н. Крылова, называя стихотворение «Silentium» и используя четырехстопный ямб, вступает в диалог с двумя классическими текстами – тютчевским и мандельштамовским. Ее произведение одновременно тематически отсылает к обоим, отличающимся друг от друга стихотворениям, и не совпадает с ними. В металирическом произведении, обращенном к себе и к собратьям-поэтам, Э.Н. Крылова по-своему разрабатывает тему молчания. Модус ее обращения – не императивный призыв, но сомнение в возможности подлинного, живого словесного творчества как такового. Это не тютчевское мучение из-за стремления выразить и сообщить Другому невыразимое и из-за невозможности этого, а сомнение в жизненной энергии самих земных слов безотносительно возможной коммуникации с Другим: истинное творчество, по ее мнению, доступно единственно только Творцу, Богу, и оно происходит за пределами слов. Это также не мандельштамовский стыд за несовершенство собственных творений и желание замедлить, усовершенствовать переход от дословесного к словесному, а отказ от словесного творчества: любое такое творчество несовершенно, потому искусство может реализовываться лишь во внесловесной сфере и сообщаться Другому только интуитивно.
Заключение. Э.Н. Крылова упоминает в финале своего «Silentium» Будду Шакьямуни и намекает на Его Цветочную проповедь, но оказывается удалена и от буддийского взгляда. Не говоря о том, что в буддизме отрицается существование Бога-творца [Нагарджуна, 2018], представленное в стихотворении истолкование Проповеди о цветке также не кажется верным. Молчание Будды связано с утверждением возможности говорить «от сердца к сердцу» (заметим, там, где романтик Ф.И. Тютчев задал вопрос, Будда прежде дал на него ответ) и с мыслью об искажении истинной природы реальности концептами и омраченным, не воспринимающим таковость восприятием, а не с тем, что реальность живого существа однозначно реальна и сущностно превосходит его словесное отображение.
Список литературы «Silentium» Эллы Крыловой: (не)буддийское молчание
- Балтин А. Лучение стихов Эллы Гремяки // 45-я параллель: сайт. URL: https://45parallel.net/ella_krylova-gremyaka/index.html#creation (дата обращения: 20.10.2024).
- Бекметов Р.Ф. Русская литература и буддийско-даосский Восток (проблемы диалога). Казань: Школа, 2018. 328 с.
- Бернюкевич Т.В. Буддизм в русской литературе конца XIX - начала XX века: идеи и реминисценции. СПб.: Нестор-История, 2018. 168 с.
- Зейферт Е.И. Два молчания: «Silentium!» Тютчева и «Silentium» Мандельштама // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Филология. Журналистика. 2022. № 2. С. 51-55.
- Зейферт Е. И. Объемность (многомерность) произведения. Есть ли у произведения начало и финал? // Вестник РГГУ. 2017. № 2. С. 7-18. EDN: ZAOXWP
- Карпенко А. Срединный путь Эллы Крыловой // Зинзивер. 2012. № 8. URL: https://magazines.gorky.media/zin/2012/8/sredinnyj-put-elly-krylovoj.html (дата обращения: 23.11.2024).
- Крылова Э.Н. Дорога // Зинзивер: литературно-художественный журнал. 2012. № 7. URL: https://magazines.gorky.media/zin/2012/7/doroga-3.html (дата обращения: 03.11.2024).
- Крылова Э.Н. Стихи о Японии // 45-я параллель: сайт. 2020. URL: https://45parallel.net/ella_krylova-gremyaka/stikhi_o_yaponii/?ysclid=m1rhwaw 9xx662337639 (дата обращения: 23.11.2024).
- Нагарджуна. Опровержение идеи Бога-творца и творения Вишну (Ишвара-картритва-ниракритир-вишнор-эка-картритва-ниракарана) / пер. В.П. Андросова // Андросов В.П. Основоположник Махаяны Нагарджуна и его труды: в 2 т. / Российская академия наук, Институт востоковедения. М.: Наука - Восточная литература, 2018. Т. 1. С. 289-299.
- Никадем-Малиновская Э. Духовность в поэзии Эллы Крыловой как эффект амальгамирования ментальных пространств лирического субъекта (на примере сборника стихов «Мерцающий остров») // Laidinen.ru: сайт. URL: https:// laidinen.ru/statja-jevy-nikadem-malinovskoj-o-tvorchestve-jelly-krylovoj/7ysclid =m1rgfmz3n4930283149 (дата обращения: 20.10.2024).
- Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопо-этического: Избранное. М.: Прогресс - Культура, 1995. С. 259-367.
- Черашняя Д.И. Осип Мандельштам «Silentium»: возврат или становление? // Филолог: интернет-журнал. 2009. № 8. URL: http://philolog.pspu.ru/module/ magazine/do/mpub_8_8 (дата обращения: 03.11.2024).