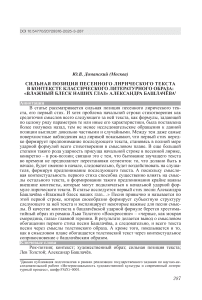Сильная позиция песенного лирического текста в контексте классического литературного образа: «влажный блеск наших глаз» Александра Башлачёва
Автор: Ю.В. Доманский
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается сильная позиция песенного лирического текста, его первый стих. И хотя проблема начальной строки стихотворения как средоточия смыслов всего следующего за ней текста, как формулы, задающей по целому ряду параметров те или иные его характеристики, была поставлена более полувека назад, тем не менее исследовательские обращения к данной позиции выглядят довольно частными и случайными. Между тем даже самые поверхностные наблюдения над лирикой показывают, что первый стих нередко формирует предпонимание последующего текста, становясь в полной мере ударной формулой всего стихотворения в смысловом плане. В еще большей степени такого рода ударность присуща начальной строке в песенной лирике, конкретно – в рок-поэзии; связано это с тем, что бытование звучащего текста во времени не предполагает перестановки сегментов: то, что должно быть в начале, будет именно в начале, следовательно, будет воздействовать на слушателя, формируя предпонимание последующего текста. А поскольку смысловая контекстуальность первого стиха способна существенно влиять на смыслы остального текста, в формировании такого предпонимания крайне важны внешние контексты, которые могут подключаться к начальной ударной формуле лирического текста. В статье исследуется первый стих песни Александра Башлачёва «Влажный блеск наших глаз…» Песня привычно и называется по этой первой строке, которая своеобразно формирует субъектную структуру следующего за ней текста и эксплицирует некоторые важные для песни смыслы. В качестве контекста к башлачёвской ударной формуле берется хрестоматийный образ из романа Льва Толстого «Воскресение» – «ч ерные, как мокрая смородина, глаза» главной героини. В результате делается вывод о смысловом обогащении первого стиха песни Башлачёва, а следовательно, и всего текста песни через смыслы толстовского образа. А кроме того, показывается и то, как в смысловом плане обогащается толстовский текст через контекстуальное соприкосновение с башлачёвским образом.
Рок-поэзия, контекст, художественный образ, сильная позиция текста, Лев Толстой, Александр Башлачёв
Короткий адрес: https://sciup.org/149149398
IDR: 149149398 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-287
Текст научной статьи Сильная позиция песенного лирического текста в контексте классического литературного образа: «влажный блеск наших глаз» Александра Башлачёва
The article examines the strong position of the song lyric text, its first verse, in the context of an image from classical literature. And although the problem of the opening line of a poem as the center of meanings of the entire text following it, as a formula that sets certain characteristics of it according to a number of parameters, was posed more than half a century ago, nevertheless, research appeals to this position seem rather special and random. Meanwhile, even the most superficial observations of lyrics show that the first verse often forms a pre-understanding of the subsequent text, becoming a fully striking formula of the entire poem in semantic terms. To an even greater extent, this kind of emphasis is inherent in the opening line in song lyrics; this is due to its sounding nature, because the existence of a sounding text in time does not imply a rearrangement of segments: what should be at the beginning will be exactly at the beginning, therefore, it will affect the listener, forming a pre-understanding of the subsequent text. And since the semantic contextuality of the first verse can significantly influence the meanings of the rest of the text, external contexts that can be connected to the initial stress formula of the lyrical text are extremely important in the formation of such pre-understanding. The article examines the first verse of Alexander Bashlachev’s song “The Wet Shine of Our Eyes...” The song is traditionally named after this first line, which uniquely forms the subjective structure of the text that follows it and explicates some important meanings for the song. A textbook image from Leo Tolstoy’s novel “Resurrection” is taken as a context for Bashlachev’s stress formula, “black, like wet currants, eyes” of the main character. As a result, a conclusion is made about the semantic enrichment of the first verse of Bashlachev’s song, and, consequently, the entire text of the song through the meanings of Tolstoy’s image. And in addition, it is shown how Tolstoy’s text is enriched in semantic terms through contextual contact with Bashlachev’s image.
s
Rock poetry; context; artistic image; strong position of the text; Leo Tolstoy; Alexander Bashlachev.
Еще в 1972 г. В.С. Баевский обратил внимание на важность первой строки в лирическом стихотворении: первый стих «в известном смысле <…> представляет все произведение, сигнализирует обо особенностях его метрики, языкового строения и содержания, являясь своеобразной моделью целого» [Баевский 1972, 22]. В результате исследователь обозначил два важных вывода по данному объекту: 1) строже всего первая строка «представляет метрику стихотворения; менее строго – языковые уровни; и еще менее строго – самые содержательные, надъязыковые уровни стиховой структуры» [Баевский 1972, 28]; 2) порою первая строка «выступает репрезентантом структуры лирического стихотворения в целом» [Баевский 1972, 29].
Однако за прошедшие более чем полвека мысль о смысловой важности начального стиха не стала аксиомой, обращения же исследователей к данному объекту отнюдь нельзя назвать частыми. Такое невнимание обусловлено, пожалуй, тем, что смысловая проекция первой строки на последующий текст отнюдь не является тотальной, хотя и есть случаи, когда такая проекция очевидна; тогда можно говорить о множестве функций начального стиха в лирике: «В стихотворениях без заглавий функцию наименования выполняет первая строка, репрезентирующая произведение во внешнем мире, играющая важную роль в процессе декодирования художественного целого, управления читательским восприятием. <…> Подобно заглавиям, первые строки стихотворений передают в концентрированной, сжатой форме главную тему, идею лирического произведения, эксплицируют центральное событие и называют героя, содержат сведения об экспозиции, передают авторскую оценку сообщаемого, задают “точку зрения” <…>, наблюдателя, поэтому типология стихотворных зачинов может быть основана на характере передаваемой ими информации, связанной с универсальными поэтическими смыслами <…> – “человек”, “время”, “пространство”, “событие”» [Патроева 2013, 199–200]. И этим, разумеется, список того, что может содержать первая строка стихотворения не исчерпывается. Так, «структурно-смысловая организация первых строк не может не отражать особенностей идиостиля и жанровой специфики произведения» [Патроева 2013, 204]. Но есть и случаи обратного свойства – когда первый стих ничего из перечисленного не задает, либо, что чаще, задает лишь некоторые из характеристик, которые потом будут в той или иной степени реализованы в остальном тексте; видимо, именно в силу этого исследователи не спешат концентрировать свое внимание на таком объекте, как первый стих в лирике.
Между тем при всей факультативности экспликации большинства смысловых характеристик в каждом конкретном случае и при всем потенциальном многообразии смыслового наполнения первого стиха в его проекции на последующий текст всеобщим для лирики (даже озаглавленной) будет то, что первый стих в качестве сильной позиции формирует предпонимание всего стихотворения. Разумеется, велика вероятность того, что оно, это предпо-нимание, окажется ложным, что сформированный первым стихом горизонт ожидания будет разрушен последующим текстом, однако сам факт формирования предпонимания начальной строчкой произойдет в любом случае. И это особенно показательно применительно к текстам звучащим, потому что бытование звучащего текста не предполагает перестановки сегментов (что возможно при обращении к лирике бумажной); проще говоря, то, чему положено звучать в начале, прозвучит именно в начале, а значит, будет воздействовать на слушателя прежде прочих сегментов, формируя их предпонимание.
Мы рассмотрим первый стих песни Александра Башлачёва, которую чаще всего и принято по этому первому стиху называть – «Влажный блеск наших глаз…» (1984, хотя встречается название «Пастельная песенка»). Если говорить о специфике начального стиха этой песни в плане формирования тех или иных характеристик дальнейшего текста, то именно здесь, в первом стихе, закладывается специфическая экспликация дальнейших субъектно-адресных отношений (о специфике и типах субъектов подробнее см.: [Малкина 2023; Малкина 2024]): перед нами коллективный субъект, сущность которого проясняется из дальнейшего текста – это основной субъект, далее зачастую эксплицированный единственным числом первого лица, и его возлюбленная, далее порою представляемая единственным числом вто- рого лица. Действительно, по ходу песни коллективный субъект продолжает эксплицироваться первым лицом множественного числа, как было задано в начальном стихе, эксплицируется соответствующими местоименными и глагольными формами, но при этом в целом ряде сегментов распадается на единичного субъекта (лирическое я) и адресата (лирическое ты), благодаря чему текст начинает строится как обращение субъекта к адресату. В тексте, таким образом, с определенной периодичностью сменяют друг друга коллективный и единичный (личный) субъекты, при этом при появлении личного субъекта почти всегда появляется эксплицированный адресат, то есть субъект по ходу текста то выделяется из коллективного как личный (высказывание тогда строится, как обращение к эксплицированному адресату), а то реализуется как коллективный (тогда личный субъект и адресат сливаются в нем в единство). Вот текст песни Башлачёва целиком.
Влажный блеск наших глаз...
Все соседи просто ненавидят нас.
А нам на них наплевать,
У тебя есть я, а у меня - диван-кровать.
Платина платья, штанов свинец
Душат только тех, кто не рискует дышать.
А нам так легко. Мы наконец
Сбросили все то, что нам могло мешать.
Остаемся одни,
Поспешно гасим огни
И никогда не скучаем.
И пусть сосед извинит
За то, что всю ночь звенит Ложечка в чашке чая.
Ты говоришь, я так хорош...
Это оттого, что ты так хороша со мной.
Посмотри - мой бедный еж
Сбросил все иголки. Он совсем ручной.
Но если ты почувствуешь случайный укол, Выдерни занозу, обломай ее края.
Это оттого, что мой ледокол Не привык к воде весеннего ручья.
Ты никогда не спишь.
Я тоже никогда не сплю. Наверное, я тебя люблю. Но я об этом промолчу, Я скажу тебе лишь То, что я тебя хочу.
За окном - снег и тишь...
Мы можем заняться любовью на одной из белых крыш.
А если встать в полный рост, То можно это сделать на одной из звезд.
Наверное, зря мы забываем вкус слез.
Но небо пахнет запахом твоих волос.
И мне никак не удается успокоить ртуть, Но если ты устала, я спою что-нибудь.
Ты говоришь, что я неплохо пою.
И, в общем, это то, что надо.
Так это очень легко.
Я в этих песнях не лгу, Видимо, не могу.
Мои законы просты –
Мы так легки и чисты.
Нам так приятно дышать.
Не нужно спать в эту ночь, А нужно выбросить прочь Все, что могло мешать [Александр Башлачёв 2001, 138–139].
И если витиеватая субъектная структура всего текста (переходы с «мы» на «я» и «ты» и обратно) так или иначе соотносится с притяжательным местоимением «наших» из первого стиха, тем самым определяясь субъектной организацией данной сильной позицией, то те сегменты начальной формулы, которые даны через прилагательное и два существительных, в остальном тексте лексически не воспроизводятся (о семантическом воспроизведении, о том, что можно посчитать таковым, скажем, чуть ниже). Однако уже сам факт нахождения этих сегментов в сильной позиции лирического текста, позиции, оформленной к тому же в виде согласованной внутри себя формулы, позволяет более пристально присмотреться к ней и в том числе – поискать к данной сильной формуле и к ее сегментам те или иные внешние контексты, которые позволят в смысловом плане обогатить начальный стих башлачёвской песни. Дело в том, что смысловая контекстуальность первого стиха в лирике (и в рок-лирике в том числе) способна существенно влиять на смыслы остального текста, то есть при формировании предпонимания крайне важны те контексты, которые могут сопровождать начальную ударную формулу.
Применительно к «Влажному блеску наших глаз» одним из таких контекстов может являться хрестоматийный образ (будем использовать этот термин – при всех его очевидных недостатках именно понятие образа в традиционном его понимании как нельзя лучшее соответствует предлагаемому нами контекстуальному сопоставлению) из романа Льва Толстого «Воскресение», где при описании внешности героини, Катюши Масловой, довольно часто упоминаются глаза. И некоторые из этих упоминаний заинтересовали нас в связи с начальным стихом песни Александра Башлачёва «Влажный блеск наших глаз…»
Приведем примеры из толстовского романа. Вот описание игры в горелки юной героини с юным же Нехлюдовым: «Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина глазами, летела ему навстречу» [Толстой 2024, 60]. Вот описание глаз Катюши с точки зрения Нехлюдова при следующей их встрече: в числе прочего Нехлюдов «не мог без умиления смотреть в ее черные, как мокрая смородина, глаза, особенно когда она улыбалась» [Толстой 2024, 71]. И уже спустя годы, после суда – тут нет сравнения глаз со смородиной, но есть указание на блеск: «Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и исподлобья взглянула на него. Черные волосы, так же как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками, лицо, нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно, только глянцевито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели» [Толстой 2024, 200].
Создание образа на основе сравнения черных глаз Катюши Масловой с мокрой смородиной было подробно рассмотрено П.В. Палиевским в вышедшей в начале 1960-х гг. прошлого века работе «Внутренняя структура образа» (опираясь на данную работу, мы и решили в качестве базового использовать именно это понятие – «образ»). Приведем некоторые важные для нас моменты из исследования Палиевского: «Глаза Катюши Масловой не “черные”, а “черные, как мокрая смородина”. Смысл, содержание, качество предмета А рождается во взаимодействии А и В . Неуловимый простым словом “черный” оттенок глаз уловлен с помощью соотнесения с другим предметом, мокрой смородиной» [Палиевский 1962, 75]; образное сравнение «затрагивает два самостоятельных предмета и рождает из их взаимодействия самостоятельный смысл» [Па-лиевский 1962, 76; курсив П. Палиевского]; «…смородина раскрывает связь катюшиных глаз с массой разных качеств, которых раньше мы в этих глазах не подозревали; наши знания расширяются, разрастаются в объеме: абстракция, отвлечение от эмпирической данности, уход от первого предмета к более общему содержанию очевидны – и, однако, это отвлечение никак не закреплено. Мы чувствуем абстракцию, не видя, чтобы она где-нибудь прорывалась наружу, заявила о себе на обычном своем недвусмысленном, определенном языке понятий. И это есть не что иное, как мельчайший акт “типизации”. В нем, как в капле, видна испытанная “хитрость” художника, который передает в своих картинах широчайшее содержание, поднимаясь порой до символа, но нигде не покидает вещности, держит и развивает гигантские обобщения в материале в конкретности. Это есть одновременно уже и характерная для искусства широта, свобода и разносторонность определений; смородина, определяя глаза, не старается ведь указать на единственный, точный исчерпывающий их сущность признак» [Палиевский 1962, 77].
Таким образом, в романе Льва Толстого и характер Катюши Масловой, и ее взаимоотношения с Нехлюдовым (чья точка зрения доминирует в повествовании, хотя и дается зачастую в речи изображающей), и даже то, что можно назвать авторской позицией, транслируются (разумеется, в числе прочего) и через описания глаз героини, через то, что Палиевский определил как художественный образ; в эту предельно компактную сравнительную формулу сворачиваются во множестве своем различные смыслы, связанные с проблематикой романа Льва Толстого. Нам же важно, что черные как мокрая смородина глаза на уровне семантики довольно близки тому, что создается в начальной формуле башлачёвской песни; такая близость и позволяет нам рассматривать одно через другое с целью увидеть смыслы, вне толстовского контекста скрытые.
Несложно заметить, что сильная позиция песни Башлачёва, строка «Влажный блеск наших глаз», может быть прочитана как доминанта смысла всего остального текста; и это при том, что три ее словесных сегмента из четырех в дальнейшем тексте, как уже было сказано, лексически не повторяются. Однако в песне можно отыскать семантические повторы к лексемам из ударной форму- лы начала: с лексемой «влажный» можно соотнести «воду весеннего ручья», а «вкус слез» соединяет «влажный» и «глаза» из начального стиха. Однако важно даже не это, а то, что вся начальная формула песни общей сутью своей формирует смыслы дальнейшего текста. Можно представить эту смысловую суть следующим образом: внешняя визуальная характеристика «нас» («меня» и «тебя») свернута всего лишь в формуле «влажный блеск наших глаз», но именно эта формула задает «нашу» общность, задает то, что «мы» («я» и «ты») представляем собой единство, выраженное с самого начала в общем для нас двоих состоянии глаз, где сошлись в единую систему две характеристики -влажность и блеск. Каждая из них применительно к глазам хороша и по отдельности, но в системе друг с другом влажность и блеск формируют образ - и красивый, и глубокий. Будучи лишенным глагола (не только в первом стихе, но и в стихе следующем, который как бы о другом, как бы грамматически не связан со стихом-предшественником - «Все соседи просто ненавидят нас»), статичный по сути своей и в своем постоянстве, этот образ влажного блеска наших глаз даже формально в высшей степени оказывается номинативен по отношению ко всему тексту, то есть с полным правом становится его названием. Но нам важнее сейчас не номинативная функция первого стиха (она, согласитесь, в специально неозаглавленной лирике очевидна), нам важнее смысловая функция ударной формулы, функция, связанная у Башлачёва с внешней общностью коллективного субъекта, общностью, что дана через портретную деталь, объединяющую наши глаза в единство их системно характеристикой -влажным блеском. И это «наше» единство друг с другом, единство «меня» и «тебя» в целостном «мы» оказывается далее противопоставлено остальному миру, для которого «влажный блеск наших глаз» выступает как своего рода аллерген, как повод к тому, чтобы ненавидеть «нас», ведь этот влажный блеск отличает «нас» от всех остальных, делает «нас» даже на визуальном уровне не такими, как все, буквально - иными, другими, чужими. Но этот «наш» мир - прекрасен; он, уж точно, лучше мира «всех соседей». Да и может ли быть иначе, когда ударной внешней деталью, с которой начинается рассказа о «нас», оказывается «влажный блеск наших глаз»? Видимо, потому что «мы» так прекрасны, так красивы, и тем самым отличаемся от остальных, «нас» и ненавидят «все соседи». «А нам на них наплевать, // У тебя есть я, а у меня -диван-кровать». И весь остальной текст в разных ракурсах и плоскостях развертывает то, как хорошо и прекрасно все, что «мы» делаем, что будем делать, и как в этих деяниях хороши и прекрасны и «мы», и «я», и «ты». А «влажный блеск наших глаз» своей красотой (и в означающем, и в означаемом, то есть и формально, и семантически) ударно задал красоту «нас» и «нашего» мира, который, может, потому и хорош, что субкультурно обособлен от мира внешнего.
Но что дает для понимания начальной формулы песни Башлачёва, а, следовательно, и всего остального текста подключение к ней контекста про глаза Катюши Масловой? Прежде всего, сосредоточимся на отличиях в очень похожих в образном плане формулах. Следует учитывать, что у Башлачёва, в отличие от Толстого, не сравнение; толстовская формула словно свернулась в первом стихе башлачёвской песни в не менее яркий образ, где все сегменты относительно друг друга согласованы. Как следствие, башлачёвский образ преодолел толстовскую элементарность (сравнение все-таки элементарный троп). Образ «черные, как мокрая смородина, глаза» формировал в романе Льва Толстого уникальность героини; яркая визуальная характеристика привлекла к себе внимание и Нехлюдова, и читателя; оба они (позволим себе вымышленного персонажа и условного реципиента текста видеть в одном мире) эмоционально восприняли данный образ в силу его красоты и необычности, что позволило сформировать и отношение к Катюше Масловой – и Нехлюдову, и читателю; в результате же – не осудить, а полюбить Катюшу; внешняя характеристика перевесила и поступки, и образ жизни; можно даже сказать – интимно приблизила героиню к читателю, заставляя любоваться ей даже в самых неприглядных условиях и обстоятельствах.
Если эти смыслы подключить к ударной формуле песни Башлачёва, то и в ней можно увидеть такого же рода привлекательность «нас» для слушателя: красота формулы и того, что за ней стоит в плане значения, рождает у слушателя солидарность с коллективным субъектом, побуждает и далее любоваться ими, их отношениями и их поступками, а вместе с этим – не принимать позицию «соседей», точнее – подобно субъекту и адресату не воспринимать эту позицию вообще.
Наконец, не менее важно, что и толстовский образ «черных, как мокрая смородина, глаз» может в смысловом плане обогащаться через подключение к нему образа башлачёвского. В данном ракурсе можно говорить, например, о неявленном прямо, но имплицитно имеющем место быть, а при подключении «Влажного блеска наших глаз» и актуализируемого смысла, связанного с обособленностью героини Льва Толстого от мира, субкультурным по сути своей статусом ее существования в мире.
Итак, попав в общий контекст, два художественных образа взаимно обогатили друг друга в смысловом плане. То же, что на эти образы неизбежно обращается внимание при рецепции, связано не только с их красотой и глубиной, но с их положением: в случае романа Льва Толстого это то, что образ повторяется, становясь важным мотивом; в случае песни Башлачёва – нахождение образа в сильной позиции текста, в его начале, что делает «влажный блеск наших глаз» ударной формулой, разворачивающейся во весь последующий текст. Заключим же выводом о том, что от исследователя требуется проявлять повышенное внимание к начальному стиху в лирике, а особенно в лирике звучащей, конкретно – в рок-лирике; и в числе прочих способов аналитического осмысления данной позиции не последнее место следует отвести осмыслению контекстуальному.