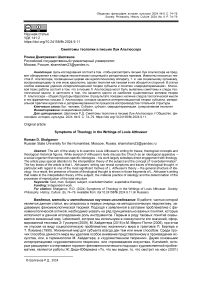Симптомы теологии в письме Луи Альтюссера
Автор: Шалганов Р.Д.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть письмо Луи Альтюссера на предмет обнаружения в нем следов теологических концепций и риторических приемов. Известны несколько текстов Л. Альтюссера, посвященных церкви как идеологическому аппарату, т. е. как социальному организму, воспроизводящему ту или иную идеологию, однако теология как таковая в них обходится стороной. В статье особое внимание уделено интерпелляционной теории субъекта и понятию «сверхдетерминация». Ключевой тезис работы состоит в том, что в письме Л. Альтюссера могут быть выявлены симптомы и следы теологической мысли, в частности в том, что касается одного из наиболее существенных мотивов теории Л. Альтюссера - общей структуры Идеологии. В результате показано наличие следов теологической мысли в тех фрагментах письма Л. Альтюссера, которые касаются интерпелляционной теории субъекта, материальной практики идеологии и детерминированности процессов воспроизводства тотальной структуры.
Бог, человек, субъект, субъект, сверхдетерминация, суперлативная теология
Короткий адрес: https://sciup.org/149146465
IDR: 149146465 | УДК: 141:2 | DOI: 10.24158/fik.2024.9.11
Текст научной статьи Симптомы теологии в письме Луи Альтюссера
и О. Финка «О феноменологии» (Fink, 1975). Указанные источники исчерпывающим образом описывают набор методологических установок, с которым мы подходим к исследуемому вопросу.
Симптомы теологии в письме Л. Альтюссера . Католическое образование и явно высказанное желание принять постриг с неизбежностью свидетельствуют о глубине религиозного чувства, которая была свойственна Л. Альтюссеру еще до войны и лагеря военнопленных, где его настигла случайная судьбоносная встреча с первым в его жизни партийный коммунистом. Дискуссия о том, насколько религиозность молодых лет в действительности повлияла на теоретическую работу Л. Альтюссера, в последние годы активизировалась, о чем красноречиво свидетельствует, в частности, издание «Л. Альтюссер и теология» (Althusser and theology…, 2016), тексты, входящие в состав которого, написаны ведущими альтюссероведами современности. Здесь нам хотелось бы обратить внимание на те следы теологии, которые мы можем в действительности обнаружить в его письме.
Симптом первый – Богу нужен человек, Субъекту нужен субъект . Первый и один из наиболее примечательных симптомов теологичности мысли Л. Альтюссера мы можем обнаружить в заключительной части «Идеологий и идеологических аппаратов государства» (Althusser, 1995: 269–314). Работа начинается с упрека в адрес К. Маркса в том, что он не оставил в своем письме «общей теории идеологии», ограничившись недостаточно ясными упоминаниями и критикой различных частных идеологий. Этот недостаток теории и призвано исправить исследование «О воспроизводстве» (Althusser, 1995). Подготовив почву для анализа общей структуры всякой конкретной идеологии, Л. Альтюссер берет в качестве примера для финального анализа «религиозную идеологию христианства», и этот выбор сам по себе симптоматичен. Более того, Л. Альтюссер обращается к одному из наиболее известных и важных для теологии мест Писания, а именно к третьей главе книги «Исход», в качестве материала для финального анализа избирая обращение Бога к Моисею из среды горящего куста: «Таким образом, Бог определяет сам себя как Субъекта в полном смысле этого слова, то есть как того, кто есть че-рез самого себя и для самого себя (“Я есть Тот, кто Есть”), и того, кто взывает к своему подданному субъекту, индивиду, подчиненному ему в самом этом обращении, то есть индивиду, которого зовут Моисей. И Моисей, призванный-названный по своему имени, признав, что “именно” его назвал Бог, признает, что он является субъектом, субъектом Бога, субъектом, субъективированным Богом, субъектом через Субъекта и подчиненным Субъекту1. Доказательство: он подчиняется ему и подчиняет свой народ приказаниям Бога» (Althusser, 1995: 309).
Из приведенного фрагмента мы видим, что Моисей, в интерпретации Л. Альтюссера, не только получает свою миссию или узнает сокровенное имя Бога, которое так много значит, в частности, для томистской теологической традиции. Моисей, откликнувшись на призыв, тем самым получает свою самость в дар от Господа, предварительно получив от него знание о самости Божественной, которая высказывает себя в имени «Я Тот, кто Есть».
Л. Альтюссер не останавливается на этом и идет дальше: «Как доказывает нам всякое теологическое рассуждение, в то время как Бог мог бы обойтись без этого… Бог нуждается в человеке, Субъекту нужны субъекты , как и человеку нужен Бог, субъектам нужен Субъект. Или еще лучше: Богу, великому Субъекту субъектов, нужен человек… » (Althusser, 1995: 309). Что это за «всякое теологическое рассуждение»? Не притаился ли там рейнский мистик? Нигде, ни в одном своем тексте Л. Альтюссер не упоминает М. Экхарта, но мы можем предположить, что в этом фрагменте высказывает себя не столько конкретный автор, сколько сам логический узел, лежащий в основе риторического приема, в котором прямая катафатическая зависимость человека от Бога апофатически переворачивается на сто восемьдесят градусов. «…когда я, по своей свободной воле, вышел и воспринял свое тварное бытие, тогда я возымел Бога; ведь до того, как возникли творения, Бог не был “Богом”, но был тем, чем Он был»; и далее: «А не будь меня, не было бы и “Бога”. Что Бог является “Богом”, тому причиною я. Не будь меня, Бог не был бы “Богом” »2.
При этом Л. Альтюссер, ссылаясь на Аквината, продолжает свою мысль, доводя ее до логического предела: «Бог посылает самого Себя, свою ипостась, чтобы показать человеку путь к Себе» (Althusser, 1995: 309). Здесь Л. Альтюссер фактически высказывает максиму Г. Гегеля о забвении Духом самого себя и о пути к самому себе через множество форм, включая человеческое тело и разум.
Симптом второй – практика поклонения. Вторым моментом, намекающим на теологические корни мысли Л. Альтюссера, мы, вслед за Сотирисом Панагиотисом (Althusser and theology…, 2016: 152–167), обнаруживаем в одном из центральных понятий философии Л. Аль- тюссера, а именно – в понятии практики. Л. Альтюссер разрабатывает его в рамках своей материалистической теории идеологии, настаивая на том, что всякая идеология, частная или всеобщая, не существует в виде отвлеченных понятий в сознании тех или иных субъектов, но входит в саму их плоть и кровь вместе с теми ритуалами, которые они исполняют в каждый момент.
С. Панагиотис указывает на фрагменты автобиографического «Дневника пленного», который Л. Альтюссер вел с 1940 по 1945 г., находясь в лагере для военнопленных. В этом дневнике он неоднократно обращается к Б. Паскалю, особое внимание уделяя его призыву «Преклони колени, повторяй слова молитвы и уверуешь» (Althusser and theology…, 2016: 160). Этот призыв обращен к человеку, желающему обрести веру. Именно в практике, в следовании ритуалу может родиться вера как конкретное религиозное чувство, утверждает Л. Альтюссер вслед за Б. Паскалем. Более того, при таком практическом подходе уверование происходит как своего рода раскрытие сокрытого Бога. Обращение Л. Альтюссера к этой концепции С. Панагиотис также обнаруживает в его дневнике военных лет. Deus Absconditus открывается практикующему в его душе, рождаясь в результате практики поклонения. Все это так или иначе восходит к словам апостола: «…вера без дел мертва» (Иак. 2:20). Делами утверждается вера, иными словами, в практике поклонения открывается истина бытия Божия.
Что представляет собой практика поклонения в контексте интерпелляционной теории субъ-ективации? Как и всякая практика, она оказывается событием ресубъективации субъекта на основаниях его добровольного признания собственного подданничества по отношению с Субъекту религиозной идеологии христианства. При этом сам практический акт оказывается ответом на оклик, исходящий от Субъекта. Б. Паскаль пишет, и Л. Альтюссер приводит эту цитату в дневнике: «Христос обращается ко мне со словами – “это именно за тебя я пролил такую-то каплю своей крови”» (Althusser and theology…, 2016: 163). В рамках интерпелляцион-ной теории именно это обращение, задевающее субъекта и приглашающее его преклонить колени в молитве, оказывается субъективирующим или ресубъективирующим призывом, в котором христианин, как гражданин в оклике полицейского и Моисей в обращении к нему Бога Израилева, узнает себя.
Симптом третий – Субъект, субъект и субъектность как таковая . При этом мы можем предположить, что это «узнавание себя» имеет двухчастный характер. Во-первых, как уже было показано, Моисей узнает себя в разговоре с Богом как посланника, пророка, т. е. как субъекта-подданного. Это узнавание носит характер условно внешний в той мере, в которой оно связано с социальной ролью индивида. Его субъективность здесь фактически равняется его социальной роли. Однако помимо такого самопознания относительно своей внешней функции мы можем обнаружить и второй член, или слой, этого самоузнавания. Узнавание себя на внутренней стороне субъективности носит характер познания субъектности как таковой. Что такое субъектность как таковая? Это то, что свойственно и Субъекту, и субъектам, то, в силу чего они являются тем, что они есть, субъектами и Субъектом.
Бытие Бога как тотальности отношений между атомами вещества, материального или идеального, не может быть в полной мере ухвачено понятием. Эту истину отмечает негативная теология, утверждая, например, что Бог есть несущее (Реутин, 2011: 75). В рамках этого теологического метода своего рода «переворачиванию» подвергается катафатический тезис «Бог есть полнота бытия». Приступая к этой полноте со всей скромностью своего частного разума, человек видит ее как Ничто, настолько превышает она всякое представление, которое может человек иметь о чем бы то ни было. Это Ничто сверхбытийности сотрясает мир, являя человеку полноту сущего в его бытии, по словам М. Хайдеггера, «ничто выступает при ужасе одновременно с совокупностью сущего» (1993: 22). В то же время мистические и гегельянские корни мысли М. Хайдеггера содержат в себе утверждение о принципиальном глубинном тождестве между человеком и Богом, в «глубочайшем источнике»1, где обитает Gottheit, Дух, разделяющийся на познаваемого Бога и познающего человека. Божество – единственный возможный конкретный индивид, существующий прежде первого акта субъективации и остающийся в человеке под слоями его субъектностей, которые он получает от Субъекта, пребывая под воздействием множества аппаратов государства или множества надстроек. Иначе говоря, Gottheit есть Urgrund, предельное основание, которым фундируется двухчастная базисно-надстроечная структура.
В эссе «Человек, эта ночь» Л. Альтюссер, говоря о Г. Гегеле, обращается к «глубокой теме романтизма ночи», присутствующей в его письме: «Животное желание питается природными существами в голоде, жажде, сексе. Человек, напротив, рождается в человеческом ничто» (Альтюссер, 2010). Ничто нехватки, прореха в бытии, поддерживающая в человеке работу Желания. Далее Л. Альтюссер пишет: «Гегель хорошо почувствовал это мрачное требование, и поэтому он показал, что тотальность является не только Царством ничто (или Субъекта), но также Царством бытия (или Субстанции). Вот почему природа не есть ни тень – встреча человеческих проектов (как, например, у Сартра), – ни противоположность человека – другой мир, управляемый собственными законами (как у Кожева). Гегелевская тотальность – это тотальность Субстанции-Субъекта» (Альтюссер, 2010). В среднем и позднем письме Л. Альтюс-сер обратится к Субстанции-Субъекту Спинозы с тем, чтобы уйти от гегельянского диалектизма в их отношениях. Однако здесь нас интересует в первую очередь ничтожащее ядро человеческой субъективности: представление об индивидуальности частного Ничто, на которое накладывается множество бытийных субъектностей, остается свойственным письму Л. Альтюссера на всем его протяжении. В то же время Л. Альтюссер нигде открыто не высказывает позиции относительно Ничто Бога или структуры в ее полноте, подобно М. Хайдеггеру и теологам, но мы можем в рамках статьи осуществить этот ход за него, еще раз указав на параллельное место у Л. Альтюссера. Так, Л. Альтюссер выделяет структуру как тотальность, которая объединяет инфраструктуру-базис и суперструктуру-надстройку. Мы можем повторить этот ход в паре субъект – Субъект, указав на субъектность как таковую, в силу причастности которой оба члена этой пары оказываются тем, что они есть. В таком случае ничто человеческой субъектности может совпасть с ничто Субъектности Божественной, оказавшись близким к экхартовскому Gottheit.
Симптом четвертый – детерминация превыше всякой детерминации . Одной из ключевых новаций, которые привнес Л. Альтюссер в поле современной ему марксистской мысли, состоит в том, что нам хотелось бы назвать своего рода суперлативной теологией структуры. Бытующее в догматическом марксизме сталинистского типа представление об однозначном доминировании детерминирующего воздействия базисных феноменов над надстроечными Л. Альтюссер призывает уравнять признанием равенства детерминирующего влияния феноменов надстроечных на базисные (Resnick, Wolff, 2006: 63). Позиция, учитывающая оба вектора детерминации, в которой при этом совершается отказ от признания одного из них доминирующим, обозначается в письме Л. Альтюссера позицией сверхдетерминации (2006: 146).
Сам термин Л. Альтюссер заимствует у Фрейда (Фрейд, 2018: 71). В тексте «Толкования сновидений» он вводится для обозначения множественности причин, необходимых для возникновения симптома (Фрейд, 2018: 126). Сновидение сверхдетерминированно, следовательно, число его причин больше чем одна или две. Заимствуя этот термин, Л. Альтюссер указывает на множественность причин действительного противоречия, намечая путь к алеаторному материализму своего позднего письма.
В свою очередь, сам по себе этот термин в перспективе исследования следов теологии в письме Л. Альтюссера оказывается неожиданно любопытным – в глаза сразу бросается его синтаксическое сходство с ареопагитическими υπερ- номинациями. При этом подобие обнаруживается и на уровне прагматики. Ареопагит вводит сверхимена для того, чтобы показать, что актуальный Бог превосходит всякое наше возможное его описание, оказываясь «превыше всякого имени», в то же время оставаясь именем даже по ту сторону человеческого разумения. Путь суперлативной теологии удерживает в фокусе внимания как позитивную, так и негативную теологические риторические практики (Реутин, 2011: 89–90), точно так же как концепция сверхдетерминации ухватывает оба вектора детерминации, как базисный так и надстроечный, указывая вместе с тем на невозможность определения точного числа микроскопических причин события, однако удерживая в утвердительной форме сам факт существования и влияния этих причин. Действительные причины противоречия не в базисе и не в не-базисе (надстройке), они превышают простую причинность и в этом смысле сверхпричинны или сверхдетерминантны.
Симптом пятый – апофатическая живопись Л. Кремонини. Среди текстов Л. Альтюссера об искусстве в контексте разыскания в его письме следов теологии для нас наиболее любопытным является текст «Кремонини, художник абстрактного». Рассматривая живописные работы Л. Кремонии, Л. Альтюссер задается вопросом, а что на них, собственно, изображено? В первую очередь, отвечает сам себе Л. Альтюссер, на них изображены конкретные абстрактные отношения между предметами и людьми. Эти отношения составляют структуру, которая объединяет суперструктуру-надстройку и инфраструктуру-базис и в то же время оформляет их. Может ли тотальная абстрактная структура быть изображенной в виде предмета? «Структура, управляющая конкретным существованием людей, то есть формирующая переживаемую ими идеологию из отношений людей с предметами и с другими людьми, никогда не может быть изображена – именно в качестве структуры – явно, в лицах, через позитивный отпечаток, выпукло; она может быть изображена только в виде следов и следствий, через отпечаток негативный, через индикаторы отсутствия, через изъятия» (Альтюссер, 2019: 84–85). Негативный отпечаток структуры, обнажающий ее «детерминированное отсутствие» (Альтюссер, 2019: 84–85), проявляет себя в живописи Л. Кремонини не только в образах предметов, но и в искаженных человеческих лицах, которые именно за счет уродливости не позволяют совершить стандартный ритуал наслаждения эстетическим продуктом, приводя таким образом зрителя к растерянному столкновению с отсутствием того зеркала, в котором он привык узнавать себя.
В этом столкновении проскальзывает искра Реального, отблеск истины вторичного характера всякого самосознания по отношению к структуре, формирующей его, проявляя себя лишь в тех конкретных формах, которые принимают отношения под ее воздействием. Эту искру высекает различие – на нем делает акцент Л. Альтюссер, описывая вертикальные доминанты, фигурирующие на полотнах: «большие вертикали указывают на детерминацию этого круговорота тем, что от него отлично, иной, не кругообразной структурой, законом, имеющим совершенно иную природу, – силой тяжести, которая несводима к какому бы то ни было Происхождению и которая отныне завладевает, посредством своего детерминированного отсутствия, всеми картинами Кре-монини» (Альтюссер, 2019: 82–83).
В тексте «О Брехте и Марксе» Л. Альтюссер утверждает, что главным условием сопереживания происходящему на сцене для зрителя является его ощущение пребывания в безопасном укрытии, где силы, водящие персонажами, не смогут их задеть. Ощущение безопасности гарантирует зрителю, что он получит то зрелище, за которым пришел, в котором он узнает себя благодаря идеологической составляющей, ответственной в первую очередь за узнавание. Иными словами, зритель приходит в театр, чтобы посмотреть в зеркало, которое отразит его самого в выигрышном свете, растворившись на время представления в своем отражении. Новация Б. Брехта состоит в том, чтобы это ощущение безопасности в определенный момент подорвать, ударив зрителя лбом о холодную стеклянную поверхность зеркала. Новация Л. Кремонини, в свою очередь, состоит в том, чтобы показать зрителю его самого таким, каким его видит зеркало, когда он в него не смотрит, сообщив ему тем самым в форме чувствования истину его собственной эпифеноменальности по отношению к структуре во всей ее неприглядности. В этом отсутствии «“Человек” в целом присутствует в творчестве Кремонини, но как раз потому, что его там нет… » (Альтюссер, 2019: 88–89).
Заключение . Таким образом, принимая во внимание методологическую рамку исследования, мы приходим к следующим выводам.
Во-первых, письмо Л. Альтюссера явно несет в себе ряд следов, свидетельствующих о его религиозной принадлежности и духовном образовании. Эти следы просматриваются на протяжении всей интеллектуальной карьеры Л. Альтюссера. Они раскрываются в различных контекстах, среди которых для нашего исследования в качестве приоритетного выступает контекст эстетический, разворачивающийся вокруг проблемы художественного творения.
Во-вторых, всего «следов», или «симптомов», теологической мысли в работах Л. Аль-тюcсера нами на данном этапе выделено пять: взаимная зависимость Бога и человека раскрывается в письме Л. Альтюссера как взаимное обусловливание индивидуального бытия субъекта и структуры социальных отношений; понятие «практика», узловое для всего комплекса мысли Л. Альтюссера, при ближайшем рассмотрении оказывается вырастающим из того толкования практики христианского поклонения, которое в свое время предложил Н. Мальбранш; формула субъективации индивида, принципиально важная как ключевой момент альтюссеровского взгляда на конкретную механику поля социального, обнаруживает следы решения проблемы картезианского дуализма средствами спинозистского субстанционального монизма; понятие «сверхдетерминация», вырастая корнями из психоаналитической теории, раскрывается у Л. Альтюссера как суперлативный логический ход, позволяющий удержать в фокусе теоретической позиции обе стороны противоречия; в живописи Л. Кремонини Л. Альтюссер обнаруживает не что иное, как апофатическую форму присутствия социальных отношений.
В-третьих, несмотря на незначительность, само по себе присутствие этих элементов не должно быть сброшено со счетов в перспективе дальнейшего исследования, которое может быть направлено, в частности, на прояснение подобия и различий концепции алеаторного события Л. Альтюссера, Ereignis М. Хайдеггера и понятия фантома у Ж. Деррида.
Список литературы Симптомы теологии в письме Луи Альтюссера
- Альтюссер Л. За Маркса / пер. с фр. А.В. Денежкина. М., 2006. 392 с.
- Альтюссер Л. Об искусстве / пер. с фр. М. Гринберга. М., 2019. 111 с.
- Альтюссер Л. Человек, эта ночь / пер. с фр. В. Акуловой ; под ред. Д. Потемкина // Художественный журнал. 2010. № 77–78.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 337 с.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии / пер. с нем. А.В. Михайлова. М., 2009. 489 с.
- Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / пер. с фр. А. Шестакова. СПб., 2001. 263 с.
- Мерло-Понти М. Видимое и невидимое / пер. с фр. О.Н. Шпараги ; под ред. Т.В. Щитцовой. Минск, 2006. 398 с.
- Реутин М.Ю. Мистическое богословие Майстера Экхарта: традиция платоновского «Парменида» в эпоху позднего Средневековья. М., 2011. 462 с.
- Фрейд З. Толкование сновидений. СПб., 2018. 364 с.
- Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина: 5-е изд. М., 2015. 447 с.
- Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Время и бытие: статьи и выступления: пер. с нем. М., 1993. С. 16–27.
- Althusser and theology: Religion, politics, and philosophy / ed. by A. Hamza. Leiden; Boston, 2016. 223 p.
- Althusser L. Sur la reproduction / introduction de J. Bidet. Paris, 1995. 316 p.
- Fink E. De la phénoménologie. Paris, 1975. 249 p.
- Resnick S.A., Wolff R.D. New departures in Marxian theory. Abingdon, 2006. 433 p.