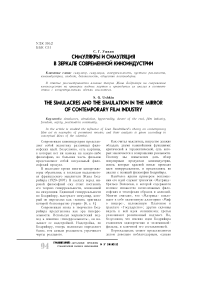Симулякры и симуляция в зеркале современной киноиндустрии
Автор: Ушкин Сергей Геннадьевич
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 3 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние теории Жана Бодрийяра на современное киноискусство на примерах видных картин и приводится их анализ в соответствии с концептуальными идеями мыслителя
Симулякр, симуляция, гиперреальность, пустыня реальности, киноиндустрия, свобода, безопасность, общество постмодерна
Короткий адрес: https://sciup.org/14720569
IDR: 14720569 | УДК: 316.2
Текст научной статьи Симулякры и симуляция в зеркале современной киноиндустрии
In the article is studied the influence of Jean Baudrillard’s theory on contemporary film art in examples of promi nent movies; and their analysis is given according to
conceptual ideas of the scientist.
Современная киноиндустрия представляет собой эклектику различных философских идей. Безусловно, есть картины, в которых нет ни намека на какую-либо философию, но большая часть фильмов представляют собой визуальный философский продукт.
В последнее время многие кинорежиссеры обратились к взглядам выдающегося французского мыслителя Жана Бод-рийяра (1929—2007). В заслугу перед мировой философией ему стоит поставить его теорию гиперреальности, основанной на симуляции. Единицей гиперреальности по Бодрийяру, выступает симулякр, который он определял как «копию, оригинал которой безвозвратно утерян» [6, с. 4].
Современная эпоха в творчестве Бод-рийяра представлена как эра гиперреальности. Используя марксистский подход к понятию «гиперреальность», он называет ее надстройкой. Надстройка, по Бодрийяру, теперь полностью определяет базис, тем самым реальность утрачивает черты реального.
Как считал мыслитель, искусство должно обладать двумя важнейшими функциями: критической и терапевтической, суть которых заключается в возвращении реальности. Поэтому мы попытаемся дать обзор популярным продуктам киноиндустрии, сквозь которые красной нитью проходит идея гиперреальности, и предоставить их анализ с позиций философии Бодрийяра.
Наиболее ярким примером воплощения его идей служит трилогия «Матрица» братьев Вачовски, в которой содержится великое множество всевозможных философских и теософских образов и аллюзий. Многие считают, что «Матрица» воплощает в себе знаменитую аллегорию «Миф о пещере», изложенную Платоном в трактате «Государство»; другие склонны видеть в ней идеи солипсизма; третьи улавливают религиозный подтекст. Но, безусловно, что именно идеи Бодрийяра становятся одновременно и «изюминкой» фильма, и ключевой его составляющей.
Пересказывать сюжет представляется делом довольно неблагодарным, однако это необходимо для его понимания. Фильм повествует нам о простом офисном работнике Томасе Андерссоне, который днем ведет тихую и мирную жизнь, а ночами взламывает компьютеры в сети Интернет под именем Нео. В один прекрасный день его просят следовать за «белым кроликом». После чего Нео начинают преследовать и люди, называющие его «избранным», и федеральные агенты. В результате мы узнаем то, что все человечество, в том числе и Нео, находятся во власти «Матрицы» — компьютерной программы, которая симулирует окружающую действительность. При этом в качестве «аккумуляторов» для своей работы она использует содержащихся в коконах людей. Далее события строятся на борьбе человека и машин.
Трудно себе представить, что фильм, отснятый в лучших традициях Джона Ву (китайский и американский кинорежиссер, известный своими работами, в которых на первый план выносится эстетика жестокости насилия), способен сочетать в себе динамику развития событий и изысканный философский подтекст. При этом нельзя не отметить, что картина ориентировалась именно на массового зрителя, и совершенно никакого отношения к вдумчивому арт-хаусу (направление в киноискусстве, рассчитанное на катастрофическое меньшинство зрителей и отличающееся интеллектуальной составляющей как способом самовыражения идей автора) не имела. Однако «Матрица» получила множество лестных отзывов не только со стороны широкой общественности, но и со стороны кинокритиков, а также многих выдающихся мыслителей современности.
Не стоит понимать все то, что преподносит нам «Матрица», абсолютно буквально. Сам Бодрийяр неоднократно подчеркивал тот факт, что братья Вачовски во многом исказили его теорию [1]. В общем и целом «Матрица», являясь визуальным манифестом идеям гиперреальности, воплотила их в достаточно гипертрофированной форме. Главны й герой существует в двух мирах: пустыне реальности и мире симулякров. Жизнь в мире симулякров воспроизводит себя. Вспомните, ведь человечество в фильме прекратило реально ступать по земле много лет назад, сразу после ядерного взрыва, когда машины решили использовать вместо аккумуляторов людей, а не солнечный свет. Но гиперреальность при этом продолжает оставаться реальностью века двадцатого. При этом жизнь индивидов утратила онтологический смысл. Если раньше люди учились на собственном опыте, то теперь человечество лишь полностью копирует опыт предшествующих поколений. Вот что по этому поводу пишет Бодрий-яр в одной из своих работ: «Местность больше не предшествует карте и не переживает ее. Тем не менее, именно карта предваряет местность — как прецессия симулякров — и порождает ее. И если вернуться к притче, то сегодня перед нами территория, чьи лоскуты медленно разлагаются на всем протяжении карты. Теперь остатки реального, а не карты сохраняются кое-где в пустынях, которые принадлежат уже не Империи, а нам. Это — пустыня реального» [цит. по: 9, с. 88].
Фильм постулирует отказ от реальности. На протяжении практически всей первой части главному герою предстоит увериться в том, что мир представляет собой лишь иллюзию. Но он всеми силами пытается удержаться за ту гиперреальность, которая преподносится как должное. Он боится «пустыни реальности», в которую его стремятся заманить Морфеус и его товарищи. Для Нео это равноценно смерти. И здесь стоит напомнить тот факт, что именно смерть Бодрийяр уподобляет последнему бастиону реальности.
Эпизод, в котором Нео предлагается сделать выбор между красной и синей таблеткой, является едва ли не одним из самых важных во всей трилогии. Братья Вачовски попытались по-своему решить бодрийяровскую проблему личного выбора — обезопасить себя или быть свободным. Герой выбрал последнее, тем самым вселив надежду в будущее человечества.
(OHIIOAOIIHI
«Избранность» главного героя тяготит его самого. При этом для всех без исключения борцов с машинами Нео становится своего рода бодрийяровским Дедом Морозом, в том смысле, что от него ждут чуда и он при жизни становится легендой. В фильме мы видим то, как «потребляется» его образ: люди стремятся быть защищенными и одновременно свободными. Вот что пишет Бодрийяр: «в... вещах обозначается идея отношения, она в них «потребляется, а тем самым и отменяется как реально переживаемое отношение» [5]. Парадоксально, но жители Зиона существуют в условиях общей симуляции. И именно «логика Деда Мороза» становится доминирующим типом рациональности массового сознания, и в этих условиях происходит культивирование патернализма и инфантильных установок.
Фильм не однозначен для понимания. Так, один из главных злодеев говорит вполне разумную вещь: «Думаю, Матрица может оказаться реальней этого мира». Отключая одного за другим экипаж корабля, на котором они находятся от матрицы, он тем не менее не способен отключить от нее Нео. В результате Нео обрел в себе автономность от матрицы. И фраза, сказанная им в конце фильма, становится краеугольной: «Возможно все».
Нельзя не отметить тот факт, что Бод-рийяр видит прямую взаимосвязь между автономностью и символическим значением: как только предмет получает последнее, то тут же становится автономным. Став знаком, предмет утрачивает первоначальную сущность, тем самым включаясь в «тотальное принуждение кода».
Еще более соответствует духу теории Жана Бодрийяра фильм 1998 г. «Шоу Трумана», снятый Питером Уиром (австралийский кинорежиссер, признанный лидер «австралийской новой волны»). Его главный герой — Труман Бёрбанк — является обычным человеком, живущим обычной жизнью. Он даже не может себе представить то, что каждый его шаг фиксируют кинокамеры, а люди, окружаю- щие его, — всего лишь актеры. Труман является главным действующим лицом популярного во всем мире телешоу.
Здесь мы наблюдаем уже не только построение вокруг героя своеобразной гиперреальности, но и аспекты общества потребления и даже то, что так яростно критикует Бодрийяр, — нигилизм и инертность постмодернистского общества.
Образы реального в фильме образуют структуры гиперреальности. Лишь в конце фильма герой окончательно понимает, что все существующее для него ранее было неподлинным. Актерская игра подставных людей из его окружения соответствует моделям развития событий и принимает форму специфических знаков, образующих интегрированную систему межличностных отношений. При этом многое, в том числе возникшие сомнения по поводу реальности происходящего, возникают посредством так называемых структур расстановки и среды. Структуры расстановки в фильме включают в себя город, место работы, дом и т. д. Сюда можно отнести и погоду, которую хитроумные сценаристы шоу способны регулировать в целях ограничения действий главного героя. Среда же во многом определяется умением подставных людей «воспроизводить» отношения с Труманом.
В фильме изобличается общество потребления. Продюсеры шоу поступились личной свободой главного героя, а зрители промолчали, предвкушая удовольствие. Здесь мы снова видим дилемму Бодрийяра о свободе и безопасности. У Питера Уира не герой, а все общество выбирает собственную безопасность в ущерб личной свободе главного героя.
При этом оно выступает не только в роли молчаливого пособника. В соответствии с идеями мыслителя этика потребления общества, показанного в фильме, являет собой новое принуждение. Бод-рийяр сравнивал подобное общество с феодальным, говоря лишь о том, что теперь в нем организован принцип своеобразного сотрудничества. Ключевой становится «обязанность покупать, чтобы об- щество продолжало производить, а сам он мог бы работать дальше, дабы было чем заплатить за уже купленное» [5]. Таким образом, общество выдает продюсерам шоу о Трумане кредит формальной свободы ради собственного удовлетворения. Но самое страшное, что во главу угла ставится уже не только гедонизм, но и принцип «потребления ради потребления».
Фильм «Шоу Трумана» более органичен и, что нельзя не отметить, более правдоподобен. Сейчас, по мысли Бодрийяра, происходит регулирование повседневности экономически, технически, политически и с помощью средств массовой информации. Подчеркивая значимость последних при моделировании террора, мыслитель пишет, что «терроризм — ничто без средств массовой информации» [2]. Таким образом, почти любое насилие могло бы быть оправдано, если бы оно не ретранслировалось средствами массовой информации.
Средства массовой информации, по мысли Бодрийяра, представляют собой своего рода некий генетический код, который управляет мутацией реального в гиперреальность. При этом, вопреки мнению большинства теоретиков социальной науки, мыслитель считает, что средства массовой информации не выполняют функцию социализации, а направляют индивидов на единственно приемлемый для современного общества путь потребления всего и вся. Абсурдность происходящего перестает быть абсурдом, отодвигая на задний план действительные желания индивидов. Постоянная трансляция культурных образцов порождает социальные образцы.
Бодрийяр с сожалением говорит о том, что «сейчас слишком легко забывают, что вся наша реальность, в том числе и трагические события прошлого, была пропущена через средства массовой информации» [3, с. 135]. За стеной растиражированных образов мы не можем узреть истинной сущности вещей. Так, он утверждает, что историю нужно было осмысливать именно тогда, когда она происходила, а не при помощи ретранслированных образов из средств массовой информации.
Среди тех фильмов, которые сращивают идею виртуального мира и мира реального, нельзя не отметить и культовый психологический триллер Дэвида Линча (известный американский кинорежиссер, сценарист и писатель, являющийся представителем американского независимого кинематографа) «Малхолланд-драйв». Начинается действие с автокатастрофы, после которой единственная уцелевшая пассажирка лимузина, потерявшая в результате этого память, сходит с трассы и забирается в пустующий, как ей кажется, дом. Но в доме оказывается другая девушка по имени Бэтти и между ними постепенно завязывается любовь. Они вместе пытаются отыскать ответы на то, что произошло с Ритой (такое имя взяла себе девушка с шоссе). Однако к концу фильма оказывается, что лимузин, автокатастрофа, поиски смысла оказываются выдуманными и существующими лишь в воображении девушки Дайаны, точной копии Риты. Выясняется, что она влюблена в Камиллу, которая, соответственно, как две капли воды похожа на Бэтти.
В этом фильме режиссер создал гиперреальность, в которой существует Дайана/Рита. Она строит собственный мир иллюзий. Теперь в этом не виновато общество. Повинной в этом становится несчастная любовь. Главная героиня стремится потреблять уже не продукт или идею, а собственные сексуальные фантазии. Здесь мы видим то, что Дайа-на/Рита пытается выдать желаемое за действительное. Она живет в отрыве от реальности, которая для нее слишком сурова. В этом фильме вновь исчезает самое существенное — различие между симуляцией и реальным. Мир теряет сущность и явление, а также реальный концепт, не оставляя возможностей для метафизической трактовки бытия. «Реальное производится, начиная с миниатюрнейших клеточек, матриц и запоминаю- щих устройств, с моделей управления — и может быть воспроизведено несметное количество раз. Оно не обязано быть рациональным, поскольку оно больше не соизмеряется с некой, идеальной или негативной, инстанцией. Оно только операционально. Фактически, это уже больше и не реальное, поскольку его больше не обволакивает никакое воображаемое. Это гиперреальное, синтетический продукт, излучаемый комбинаторными моделями в безвоздушное гиперпространство» [6, с. 155].
Возможно, теория Бодрийяра является своеобразным ключом к пониманию лучшего, по мнению американских и французских кинокритиков, фильма десятилетия [8]. В нескольких работах мыслитель приводит характеристику симулякра, которая якобы упоминается уже в Екклесиасте: «Симулякр — это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что ее нет. Симулякр есть истина» [цит. по: 6, с. 157]. При этом Бод-рийяр при помощи цитирования никогда не существующего этого якобы библейского текста попытался ввести читателя в заблуждение, создав своего рода симулякр в собственном произведении.
Линч мастерски играет с данным высказыванием, пытаясь насытить абсурдом все происходящее на экране, при этом создав атмосферу тотальной депрессии. Музыка, декорации, игра актеров — все это держит в напряжении. Ко всему прочему зритель на протяжении всего фильма мучается разгадкой тайны, которая с самого начала присутствует в фильме, и не получает в результате ничего. Словно бы сама тайна — всего лишь иллюзия, покрывающая отсутствие этой тайны, и тем интереснее от этого действие.
Особняком от вышеперечисленных картин стоит режиссерская работа Мартина Скорсезе (известный американский режиссер, кинопродюсер и сценарист, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (1976), премий «Золотой глобус» за режиссуру (2002, 2006) и приза Американской академии киноискусства «Оскар» (2006)) под названием «Остров проклятых». Фильм демонстрирует практическую возможность применения теории симулякров в повседневной жизни. Действие разворачивается в далеком от нас 1954 г. Двум маршалам США, Тедди Дэниелсу и его напарнику Чаку Оулу, необходимо расследовать исчезновение пациентки, сбежавшей из Эш-клиффской лечебницы для душевнобольных преступников на острове Шаттер. Тедди Дэниелсу приходится бороться с видениями из прошлого, которые неожиданно настигают его на острове. Он пытается вести расследование, однако пациентка вскоре находится сама. Она принимает Дэниелса за своего погибшего на войне мужа. В поисках решения загадки напарники направляются к расположенному на острове маяку. Однако у Дэниелса накопились подозрения к Оулу — и он идет один, но не доходит. Вернувшись на место расставания с напарником, Дэниелс видит его труп внизу. Пытаясь пробраться к нему, он встречается с настоящей пропавшей пациенткой, которая как оказалось, была ранее доктором в лечебнице. Тела напарника Дэниелс так и не находит.
Далее реализм первой части повествования становиться обратно пропорционален игре воображения во второй. Дэниелс решает пробраться к маяку, но не находит ни напарника, ни страшных лабораторий, которые должны были бы там быть. Вместо этого он встречает главного врача больницы, который объясняет ему, что Дэниелс является пациентом клиники. В подтверждение убедительности своих слов он зовет «напарника» Чака Оула, который оказывается лечащим врачом Дэниелса. В конце фильма Чак Дэниелс, которого, как оказалось, зовут Эндрю Леддис, подвергается процедуре лоботомии, на которую согласился сознательно. Перед этим он произнес следующие слова: «Что лучше — жить монстром или умереть человеком?». В заключение зритель вновь видит на экране зловещий маяк.
Картина дает массу поводов усомниться в реальности происходящего. Все же некоторые факты свидетельствуют о том, что Дэниэлс не был изначально пациентом клиники. Однако он сам уже не понимает, где реальность, а где вымысел. По мысли Бодрийяра, реальное есть лишь воображаемое, иначе говоря, «нулевая степень», которая является ностальгией по реальности в неразрывности реального и воображаемого. «Логика симуляции и соответствующая ей обратная логика “нулевой степени” развертываются не по диалектической стратегии снятия, но по катастрофической стратегии возведения в степень» [6, с. 161—162].
Ко всему прочему в фильме мы видим стремление общества уверить индивида в реальности происходящего, умноженное на его стремление к рациональному объяснению оного. Тотальная симуляция со стороны персонала больницы настолько нереальна, что поглощает реальность. Получившаяся гиперреальность кажется абсолютно рациональной, и попытки изобличить ее со стороны главного героя коренятся лишь в чувственном восприятии происходящего.
Не стоит, однако, питать иллюзии по поводу абсолютности чувств. Бодрийяр подвергает сомнению и их: «Осязаемость не является более органически присущей прикосновению. Чтение с экрана осуществляется отнюдь не глазами. Это нащупывание пальцами, в процессе которого глаз двигается вдоль бесконечной ломаной линии. И голос, который мы слышим в радиоприемнике, функциональный, ненастоящий. Это уже не голос в собственном смысле слова, как и то, посредством чего мы читаем с экрана, нельзя назвать взглядом» [4, с. 38—39].
В «Острове проклятых» мы вновь видим борца с системой, который пожертвовал своей безопасностью ради свободы. Свобода мышления — после- днее, что осталось у героя, и он оставил ее при себе.
Систему нельзя победить никоим образом. Она обладает мощнейшим инструментом подавления. Каждая попытка взять верх над ней оборачивается новым витком развития событий. По мысли Бод-рийяра, революция невозможна (за исключением сферы символического), ибо система представляет собой лишь симулякр реальной силы. Борьба происходит лишь с воображаемым, но не с реальным.
Именно в этом, на наш взгляд, обнаруживается трагизм героев, будь то Нео, Труман, Дайана или Дэниэлс. Кто-то из них проиграл системе в большей, а кто-то в меньшей степени. Так, Нео узнал, что многие до него не менее успешно боролись с матрицей; Труман решил выбраться из своего кокона в реальную жизнь, однако сам не знает, что его там ждет; Дайана, не в силах мириться с реальностью, пускает себе пулю в голову; Дэниэлс в поисках правды окончательно путается, и его, фактически, приговаривают к смертной казни. Получается, что герои оказываются заложниками гиперреальности.
Предоставив обзор выдающихся фильмов последних десятилетий, можно прийти к парадоксальному выводу в духе самого Бодрийяра: современное искусство является собственным эпигоном. При этом чем реальнее на экране иллюзия происходящего, тем более человек в своей повседневной жизни погружается в бездну гиперреальности. Он, как правило, пытается ассоциировать себя с каким-либо из героев, тем самым одновременно копируя его определенные паттерны поведения. Получается замкнутый круг, если не сказать Уроборос: отражая в фильмах реально существующие структуры, люди в конечном счете и «потребляют» эти структуры с экранов телевизоров.
СОЦИОЛОГИЯ
Список литературы Симулякры и симуляция в зеркале современной киноиндустрии
- «Малхолланд-Драйв» -фильм десятилетия [Электронный ресурс]: [OpenSpase.ru]/Режим доступа: http://www.openspace.ru/news/details/15491/. -Загл. с экрана.
- Бодрийяр, Ж. «Матрица» -почему этот фильм восхищает философов? [Электронный ресурс]: [Юнгианство и аналитическая психология Карла Густава Юнга]/Ж. Бодрийяр. -Режим доступа: http://www.jungland.ru/node/953. -Загл. с экрана.
- Бодрийяр, Ж. Дух терроризма [Электронный ресурс]: [ИноСМИ]/Ж. Бодрийяр. -Режим доступа: http://www.inosmi.ru/untitled/20011106/142061.html. -Загл. с экрана.
- Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла: пер с фр./Жан Бодрийяр. -М.: Добросвет, 2000. -258 с.
- Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть [Электронный ресурс]: [Электронная Библиотека Гумер]/Ж. Бодрийяр. -Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bodr_Simv/index.php. -Загл. с экрана.
- Бодрийяр, Ж. Система вещей [Электронный ресурс]: [Электронная Библиотека Гумер]/Ж. Бодрийяр. -Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bod_SisV/index.php. -Загл. с экрана.
- Грицанов, А. А. Жан Бодрийяр/А. А. Грицанов, Н. Л. Кацук -Мн.: Книжный Дом, 2008. -256 с. -(Мыслители XX столетия)
- Кралечкин, Д. Жан Бодрийяр: выйти из «Матрицы» [Электронный ресурс]: [Русский журнал]/Д. Кралечкин. -Режим доступа: http://www.russ.ru/pole/ZHan-Bodrijyar-vyjti-iz-Matricy. -Загл. с экрана.
- Феллуга, Д. «Матрица»: парадигма постмодернизма или интеллектуальное позерство?/Д. Феллуга. -Прими красную таблетку: наука, философия и религия в «Матрице». -М.: Ультра.Культура, 2003, с. 87 -102.