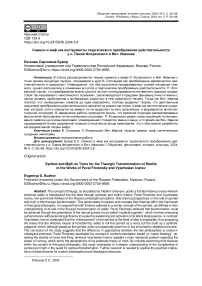Символ и миф как инструменты теургического преображения действительности у о. Павла Флоренского и Вяч. Иванова
Автор: Бужор Е.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются теории символа и мифа П. Флоренского и Вяч. Иванова с точки зрения концепции теургии, понимаемой в духе В. Соловьева как преображение эмпирической действительности в идеальную. Утверждается, что оба мыслителя придерживались схожей концепции символа, однако расходились в понимании его роли в теургическом преображении действительности. П. Флоренский считал, что преображения можно достичь за счет потенцирования естественного символа посредством так называемого «мистического познания», заключающегося в придании феномену личного имени с целью вызвать пробуждение и активизацию сокрытого в нем идеального начала. Тогда как Вяч. Иванов полагал, что «возвышение» символа до идеи невозможно, поэтому выдвинул теорию, что действенным средством преображения действительности является не символ как слово, а миф как синтетическое суждение, который, хотя и опирается на символ, но не вырастает из него органически, а формируется интеллектуальной интуицией. В завершение работы проводится мысль, что различие подходов рассматриваемых мыслителей обусловлено онтологическими посылками. П. Флоренский развил свою концепцию потенцирования символа на основе имяславия, утверждающего тождество имени и вещи, в то время как Вяч. Иванов придерживался более сдержанной позиции относительно мощи именования, что и обусловило разработку им предикативной теории мифа.
В. соловьев, п. флоренский, вяч. иванов, теургия, символ, миф, синтетическое суждение, имяславие
Короткий адрес: https://sciup.org/149145923
IDR: 149145923 | УДК: 133.4 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.8
Текст научной статьи Символ и миф как инструменты теургического преображения действительности у о. Павла Флоренского и Вяч. Иванова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Русский символизм, представлявший собой одно из ведущих художественно-философских течений в русской культуре конца XIX – начала XX вв., опирался на концепцию всеединства Владимира Соловьева, ключевым положением которой было постулирование идеального мира и его определяющее воздействие на эмпирический мир. Крупнейшим теоретиком художественного символизма был Вячеслав Иванов, в области же собственно философской символизм был наиболее всесторонним образом разработан отцом Павлом Флоренским. Следует отметить, что Вяч. Иванов и П. Флоренский были конгениальными мыслителями в понимании природы и взаимодействия ноуменального и феноменального миров, вплоть до терминологических совпадений, в том числе и в области символизма. Тем не менее, при всем сходстве в концептуальной трактовке символа, мыслители расходились в понимании его роли в преображении эмпирической действительности – важнейшего целеполагания философии всеединства.
Как известно, важным элементом философии В. Соловьева была концепция теургии, под которой мыслитель подразумевал преображение чувственно-материального мира в мир идеальный, существующий на основе принципа всеединства. Трактуя теургию достаточно широко, как реализацию «божественного начала в эмпирической действительности, осуществление человеком божественных сил в самом реальном бытии природы» (Соловьев, 1988а: 743), основной способ ее реализации В. Соловьев видел в художественном творчестве, искусстве. Как пишет известный историк русской философии В.В. Зеньковский, «понятие «теургической природы искусства» означает возможность преображения бытия через эстетическую сферу» (Зеньковский, 2008: 249). В.В. Зеньковский также удачно определил, что «у самого Соловьева термин “теургия” значит “мистическое творчество”» (Зеньковский, 2008: 249).
Столь высокое вознесение искусства было обусловлено платоническим пониманием В. Соловьевым красоты как проявления идеи в материи. Искусство, по его мнению, призвано творить красоту. Материальная вещь обладает красотой настолько, насколько в ней присутствует и проявляет себя идея, которой она причастна. Соответственно, увеличение красоты в мире прямо пропорционально увеличению присутствия в нем идеального начала или, иными словами, его одухотворению. В. Соловьев придерживался убеждения, что «вещественное бытие может быть введено в нравственный порядок только чрез свое просветление, одухотворение, т. е. только в форме красоты» (Соловьев, 1988б: 392). Поэтому художественное воспроизведение вещей материального мира равносильно их онтологической трансформации: уменьшению материальнотекучей изменчивости и нарастанию идеально-устойчивого совершенства и автономии.
Духовные наследники В. Соловьева Вяч. Иванов и о. Павел Флоренский восприняли его идею теургического преображения природы, а средство такого преображения увидели в особом явлении – символе. П. Флоренский и Вяч. Иванов придерживались схожей концепции символа. Оба мыслителя исходили из того, что явления эмпирического мира могут настолько скрывать и затемнять свое идеальное содержание, что оно может практически никак не проявляться. В этом отношении они выделяли символ как такое преимущественное сущее, в котором духовно-идеальная сущность проявлена в максимальной степени. Например, П. Флоренский называл символами такие явления, «где ткань организации наиболее проработана формующими ее силами, где проницаемость плоти мира наибольшая, где тоньше кожа вещей и где яснее просвечивает через нее духовное единство» (Флоренский, 1992: 153–154).
Подобного взгляда на символ придерживался и Вяч. Иванов: символ, в его понимании, представляет собой двуединую сущность, которая несет в себе черты как эмпирического, так и идеального миров. Более точно, символ есть предмет этого мира, насыщенный смыслом иного, идеального мира. Конечно, во всяком явлении присутствует умопостигаемая сущность, но символ – это такое явление, в котором смысл, сущность присутствуют более явственным и весомым образом. Как пишет Вяч. Иванов, «…всякий истинный символ есть некое воплощение живой божественной истины…» (Иванов, 1994б: 213), знамение божественной сферы в эмпирическом мире.
Но несмотря на то, что в символе идеально-смысловая сторона наличествует преимущественными по сравнению с другими явлениями образом, все же символ является частью материальной действительности, в нем также имеется меоническая (материально-вещественная) сторона, в силу чего даже символ выражает идею не полным и целостным образом, как она существует сама по себе, а фрагментарно и искаженно. Несмотря на более глубокую проработан- ность смыслом, все-таки чувственная сторона символа не до конца облечена в духовное содержание, поэтому затемняет и вуалирует присутствующую в нем умопостигаемую сущность, иными словами – представляет собой ее инобытие. Из этого вытекает онтологическая несамодостаточ-ность символа, его сугубо вспомогательное назначение – обнаруживать духовный мир в иноприродном ему чувственно-вещественном материале. В этом отношении П. Флоренский давал символу даже такие принижающие определения, как «пособие духовной вялости» или «костыль духовности» (Флоренский, 1995: 62).
В свою очередь Вяч. Иванов также считал, что умопостигаемая сущность присутствует в символе несобственным, свернутым образом, поэтому символ не является истинным откровением о высшем мире: он лишь знаменует высшую действительность, но не раскрывает ее так, как она есть сама по себе. Более того, поскольку символ выражает умопостигаемую сущность прикровенно, то он подлежит толкованию, причем это толкование может быть у каждого человека своим, то есть субъективным, а значит, искажающим подлинный облик умопостигаемой сущности. Таким образом, если символ, по Иванову, только знаменует высшую реальность, но не являет ее как таковую, то достигнуть преображения эмпирической действительности посредством такого символа невозможно.
Значит ли это, что теургия как таковая невозможна? Нет, но для этого ей нужно иное, более действенное средство. Символ представляет собой несамодостаточный, транзитивный феномен, который лишь задает вектор от бытия реального к бытию «реальнейшему», намечает путь к актуализации того духовного содержания, которое в нем присутствует потенциально. Однако в конкретном понимании путей актуализации потенциального содержания символа рассматриваемые нами мыслители расходятся.
П. Флоренский считал, что для задачи преображения действительности нет необходимости отказываться от символа. Да, обычный, естественный символ, как мы его находим в эмпирическом мире, выражает идею неполно, искаженно и затемненно, «как бы сквозь тусклое стекло». Но П. Флоренский полагает, что можно добиться усовершенствования символа, сделать его сверхъестественным, выражающим заключенную в нем идею адекватным образом. В символе он видит в первую очередь воплощенную идею, и лишь во вторую – неполноту и неадекватность, искаженность этого воплощения, которое он считает возможным исправить, добиться того, чтобы символ выражал идею адекватным и полным образом, превратился из репрезентирующего идею, в презентирующего ее. Метод, который предлагается П. Флоренским для этого потенцирования символа, был сформулирован им так: возвысить единичное (явление) до всеобщего (идеи) (Флоренский, 1990: 146).
Это возвышение единичного до всеобщего достигается с помощью особого типа познания, которое П. Флоренский называл объективно-реалистическим или мистическим. Суть его заключается в следующем. Всякое сущее обладает энергией. Обладает ею и умопостигаемая сущность, которая сокрыта в явлении. Помимо этой энергии сущности явление обладает набором других энергий, порожденных его существованием в материальной реальности. Именно эти материально-обусловленные энергии и заглушают сокрытую в глубине феномена энергию сущности.
Задачей теурга является выделение и усиление этой наличествующей в символе энергии сущности. Как это можно сделать, показывает философия имени П. Флоренского, согласно которой всякое сущее обладает не только энергией, но и именем. Однако при этом имена – и это ключевое положение философии имени П. Флоренского – не являются атрибутами или знаками вещей, но представляют собой самостоятельные образования эмпирического мира наподобие именуемых ими вещей, только более субтильные. Согласно П. Флоренскому, идеи также обладают именами, причем имена идей обитают в эмпирическом мире как самостоятельные образования, «как сущее среди другого сущего». Таким образом, в эмпирическом мире есть особое сущее, в котором энергия идеи присутствует не ослабленно и смешанно, как в явлениях, но в чистом и несмешанном виде – это имя идеи. П. Флоренский отмечает, что имена идей являются личными или собственными, в отличие от имен нарицательных, служащих для абстрактного познания феноменов с точки зрения выделения в них признаков нужных для тех или иных практических целей. Таким образом, имя личное, по П. Флоренскому, не есть знак, указывающий на идею, но сама идея как она существует в эмпирической реальности, иными словами, идея и ее имя тождественны. Более того, личное имя есть самостоятельно живущий, тонкий организм, способный проницать тела других предметов и производить в них действие своей энергией.
В этом смысле мистическое познание предмета заключается в подборе к нему имени идеи. Это происходит таким образом, что познающий, который заинтересован в предмете не прагматически, но захвачен им самим как целостным феноменом, обращается к нему, вопрошая о его имени, как бы примеряя к нему имена разных идей. Фактически это подход к вещи или явлению не с готовым именем, а с поиском его собственного имени, и если будет произнесено правильное имя, то оно отзовется в предмете, срезонирует в нем. Прилагаемое к предмету извне имя-идея должно совпасть с его внутренним именем-идеей (прозаическое, хотя и показательное сравнение - подбор ключа к замку с пробным проворачиванием - подходит или нет: если ключ подходит, то замок откроется без всякого усилия - в этом, кстати, проявляется суть ненасильственности мистического познания). По сути, такой процесс познания - это маевтика, призванная помочь предмету «родить» свое имя; это процесс пробных именований, посыланий имен в ожидании резонансного эффекта, когда одно из вопрошающих слов станет и ответом («Ты еси то?» - «Да, я есмь то»). В какой-то момент энергия примеряемого к явлению имени совпадет с энергией идеи, заложенной в нем, и этот резонанс усилит энергию идеи, она станет проявляться сильнее, и феномен из непрозрачного и скрывающего идею станет просветляться и проявлять ее все лучше. В результате явление, оставаясь по факту таким же единичным, становится преимущественным единичным, в нем проступает лик идеи и, соответственно, само явление возвышается до всеобщего, становится идеей.
Такова в общих чертах теория преображающего познания П. Флоренского. Благодаря мистическому познанию происходит реальная трансформация явления, феноменальной вещи в идею, в чем и заключается цель теургии.
В отличие от П. Флоренского, делающего упор на идеально-сущностной стороне символа, Вяч. Иванов выделяет его меонический аспект: «хотя всякий истинный символ есть некое воплощение живой божественной истины и постольку уже реальность и реальная жизнь, все же он реальность низшего порядка, ... условно-онтологическая по отношению к низшему и мэоническая в сравнении с высшим» (Иванов, 1994б: 213). И хотя Вяч. Иванов говорит, что «символ есть цель художественного раскрытия» (Иванов, 1994а: 155), в другом месте он указывает, что действенность символического искусства еще не есть теургия, ибо оно есть создание символов, а «тайно-действие символа не есть тайнодействие жизни» (Иванов, 1994б: 213).
Под тайнодействием жизни Вяч. Иванов подразумевает стремление чувственно-материального мира к освобождению и восхождению к высшим реальностям. В символе же тяготение материального вещества неизбывно, поэтому он бессилен сообщить истинную жизнь. Символ -реальность низшего порядка, которая только причастна высшей реальности, но никогда не может ее достичь. Он лишь «медиум струящихся через него богоявлений», лишь проводник к высшей реальности, а не ее устойчивый представитель. Таким образом, если цель художественного творчества заключается в том, чтобы раскрыть высшую реальность, то в символе, как он трактуется Вяч. Ивановым, это сделать невозможно. Нужно иное средство, и его философ находит в мифе, считая, что подлинное теургическое искусство есть не символотворчество, а мифотворчество: «приближение к цели наиболее полного символического раскрытия действительности есть мифотворчество. Реалистический символизм идет путем символа к мифу» (Иванов, 1994а: 157).
Может показаться, что между символом и мифом имеется генетическая связь, что миф представляет собой такое же раскрытие и актуализацию символа, какую у П. Флоренского представляет подлинный, сверхреальный символ по отношению к символу природному, реальному. На это указывают следующие высказывания Вяч. Иванова: миф является глубинным содержанием символа, имманентен ему (Иванов, 1994а: 157); миф вырастает из символа так же естественно, как «колос из зерна»; миф относится к символу, «как дуб к жёлудю» (Иванов, 1994в: 142). На основании этих постулатов может сложиться впечатление, что миф вторичен по отношению к символу, что символ является порождающим лоном для мифа, иными словами - что миф содержится в символе, как растение в семени, и органически из него вырастает.
На самом деле, в теории Вяч. Иванова это не так. Несмотря на то, что символ и миф выражают одну и ту же высшую реальность, они делают это совершенно по-разному, так что никакими «логическими» усилиями вывести миф из символа нельзя. Подтверждением того, что миф не выводится из символа как содержащийся в нем имплицитно, но представляет собой новое образование, которое формируется с опорой на символ, является оригинальная структурно-содержательная трактовка Вяч. Ивановым мифа, согласно которой если символ является словом, то миф является предложением, высказыванием, то есть имеет форму суждения. Простейшее предложение получается, когда субъекту или подлежащему придается некий предикат, некое действие. Именно так образуется, по Вяч. Иванову, миф: «Миф определяем мы как синтетическое суждение, где подлежащему-символу придан глагольный предикат» (Иванов, 1987: 517).
В этом определении заслуживает внимания то, что миф понимается как синтетическое суждение, и это не может не отсылать к общефилософскому различию аналитических и синтетических суждений, широко известному, прежде всего, в трактовке И. Канта. Если бы миф был аналитическим суждением, то его содержание логически вытекало бы из субъекта, было бы его экспликацией. Тогда можно было бы говорить, что миф вытекает из символа, образуется из него. Но в таком случае, миф не привносил бы ничего нового по сравнению с символом, или, говоря логико-философским языком, не расширял бы и не увеличивал те знания, которые представляются заключенными в его субъекте. Вяч. Иванов же в своем определении мифа подчеркивает, что это синтетическое суждение, т. е. оно дает новое знание, которое не содержится в субъекте. Отметим также, что миф, как синтетическое суждение, по Иванову, дает знание, которое имеет объективный характер. В своей трактовке символа Вяч. Иванов заостряет внимание на его субъективности: символ всегда выражает «реальнейшую» сущность туманно, смутно и многозначно, всегда подлежит разгадке и толкованию, которое у разных людей может варьироваться, поэтому оно не имеет достоверного характера и может быть оспорено другим толкователем. В то же время относительно мифа Вяч. Иванов подчеркивает, что он выражает сущность достоверно, является «объективной правдой о сущем» (Иванов, 1994а: 157), отображает высшую реальность полным и развернутым образом, так что в отношении него любая интерпретация становится неуместной, ибо «всякое иное истолкование подлинного мифа есть его искажение» (Иванов, 1994а: 157).
Это ставит закономерный вопрос об основоположении мифа как синтетического суждения: каким образом субъекту приписывается не содержащийся в нем признак и почему это приписывание носит объективный, всеобщий характер? Ответ может быть только один – на основании опыта. Как известно, И. Кант допускал для человека только чувственный опыт или эмпирическое созерцание. Поэтому для него синтетические суждения, основанные на чувственном опыте, имели вероятностный, а не обязательный характер. Всеобщий характер у И. Канта имеют только априорные синтетические суждения, то есть те, которые не опираются на эмпирическое созерцание. Для их обоснования философ вводит априорные чувственные созерцания, которые у него являются формой чувственности как таковой. Так, общезначимые синтетические суждения в области математики получаются на основе созерцания чувственной способностью своих априорных форм – времени и пространства – в отвлечении от всякого эмпирического содержания. Для мыслителей, придерживающихся объективного идеализма (к числу которых принадлежит Вяч. Иванов), интеллектуальная интуиция является объективно присущей человеку способностью познания, призванной давать видение тех образований, которые превышают способность чувственного созерцания. Именно она и лежит в основе мифа как синтетического суждения: в мифе предикат приписывается субъекту, содержащемуся в символе, благодаря интеллектуальному созерцанию. Таким образом, при переходе от символотворчества к мифотворчеству происходит смена онтологических планов – синтез субъекта и предиката осуществляется на основе не чувственного, но сверхчувственного опыта. Это ключевое положение ивановской теории мифа – для создания мифа нужна «интуиция сверхчувственной реальности» (Иванов, 1987: 517).
Отметим, что в отличие от чувственной интуиции, сверхчувственная, по Иванову, дает достоверное знание. Он нигде специально этого не обосновывает, видимо, считая, что дело здесь не столько в самой способности созерцания, сколько в том объекте, на который она направлена. Феномен недостоверен не столько потому, что воспринимается чувственной интуицией, сколько сам по себе, поскольку детерминирован внеположными ему факторами – временем и пространством. Тогда как ноумен свободен от такой детерминации, поэтому являет себя направленному на него взору достоверно.
Рассмотрим, какое положение дел в ноуменальном мире выявляет интеллектуальная интуиция, которая выражается в синтетическом суждении мифа. Казалось бы, можно в духе П. Флоренского полагать, что интеллектуальная интуиция должна выявлять и потенцировать в символе его скрытое идеальное содержание. Однако мифо-символическая теория Вяч. Иванова отнюдь не полагает, что интуиция сверхчувственной реальности лучше выявляет суть, субстанциальное ядро умопостигаемой сущности, чем это делает чувственная интуиция. Образно говоря, свет сущности не разгорается ярче при переключении направленного на нее взора с чувственного на сверхчувственный. Интеллектуальная интуиция у Вяч. Иванова открывает не само существо сущности, не ее суть, а ее действия или деятельность. Иными словами, интеллектуальная интуиция видит не «что», но «как» умозрительной сущности.
Поясним на примере. Солнце, как символ, многозначно и комплексно, оно подлежит многообразному толкованию. При переключении познавательной способности на интеллектуальную интуицию или, что то же самое, на мыслящее созерцание, сущность солнца не становится яснее и отчетливее, но остается на том же сокрытом, прикровенном уровне. Но вместо этого интеллектуальная интуиция впервые открывает нам действия или претерпевания солнца. Так, Вяч. Иванов приводит в качестве примера такой миф, или, в его терминологии, пра-миф, как «солнце рождается». Это безусловно синтетическое суждение, ибо предикат «рождается» не содержится в понятии солнца. И это также мифическое суждение, поскольку оно, с одной стороны, не является научно-объективирующим, с другой – представляет сущность в качестве субъекта деятельности, а стало быть, в качестве живого, разумного существа. Мифическое суждение не раскрывает сущность солнца как таковую (an sich), которая по-прежнему остается смутной и неясной, лишь обозначаемой или, в терминологии Вяч. Иванова, знаменуемой. Но мифическое суждение «солнце рожается» совершенно просто, ясно и недвусмысленно с точки зрения выражаемого им обстояния дел. Оно очевидно каждому (как у И. Канта очевидны каждому, например, требования морального закона) и, стало быть, всеобще. Достоверность этого мифического суждения обоснована тем, что само солнце раскрывает себя как субъекта определенной деятельности, то есть солнце действительно рождается.
Теперь посмотрим, как это относится к теургии, к преображению действительности. У П. Флоренского теургия осуществляется за счет того, что идея как бы нарастает в символе, разворачивается в нем, актуализируется, и сам этот процесс трансформирует символ как низшую реальность в саму идею – высшую реальность. А как может трансформировать разрозненную действительность умаленное всеединство, такой миф, как «солнце рождается»? Очевидно, что здесь нет такой непосредственной трансформации, как в теории П. Флоренского, где каждая вещь преображается сама собой по мере «нагнетания» в ней идеального компонента. Теория мифа Вяч. Иванова дает другой ответ на этот вопрос. Миф может трансформировать действительность только через человека, через его сознание. Открывшееся человеку в умозрении обстояние дел трансцендентного ноуменального мира в первую очередь модифицирует сознание индивидуального человека. Его восприятие действительности меняется, поскольку он осознает, что пра-миф, будучи событием высшей реальности, направляет и определяет ход событий низшей реальности подобно тому, как это, согласно Иванову, имеет место в творчестве Ф.М. Достоевского. Как известно, Вяч. Иванов доказывал, что интуитивно постигнутый Ф.М. Достоевским пра-миф о том, что Мать-земля ждет истинного небесного жениха-освободителя, в то время как ее осаждают лжеженихи, – определил всю структуру, идейное содержание и событийное наполнение великих романов писателя, представляющих собой вариации и развитие этого пра-мифа.
Таким образом, поэт-мифотворец, которому открылся пра-миф, видит низшую реальность в ином свете – как управляемую, руководимую живыми, деятельными существами реальнейшего мира. Однако узрение пра-мифа не ограничивается изменением сознания индивидуального ми-фотворца: миф, как объективная правда о высшем сущем, способен проникать в умы других людей. Полноценный миф, по Иванову, есть непременно достояние коллективного сознания, сплачивающее и объединяющее людей, приводящее их в состояние единства. И затем уже в таком единении на основе мифа люди способны совместно преображать всю сферу эмпирической действительности.
В заключение отметим, что рассмотренное различие подхода к теургии на основе символа у П. Флоренского и Вяч. Иванова основывается на их онтологических предпосылках. Теория преображения естественного символа в сверхъестественный посредством прилагания к нему имени идеи основана на имяславии. Эта «именовательная» теория символа базируется на так называемом эссенциализме, предполагающем, что сущность идеи, как она есть сама по себе, и сущность идеи, как она присутствует в инобытии, – одна и та же. Отсюда развитие и трансформация эмпирического (или в христианском словоупотреблении – тварного), сущего происходят на основе субстанциально присутствующей в нем высшей сущности – идеи.
Позиция Вяч. Иванова находится вне русла имяславия (Гоготишвили, 2006: 17–18). Он придерживается апофатической точки зрения и не допускает полного постижения сущности – она всегда остается непознаваемой. Подлинной сутью сущности является ее непостижимость, которую нельзя уловить никаким видом познания вообще, и которая доступна только некоторому переживанию или «умудренному неведению», если использовать терминологию другого представителя всеединства С.Л. Франка. Сущность как таковая непостижима по существу. Поэтому та сущность, которая обнаруживается в инобытийном символе, не может из него органически произрастать, ибо ее как таковой в нем нет, она лишь знак и указание на самое себя – не субстанция, а реляция. Соответственно, миф не происходит из символа как растение из семени, а создается, основываясь на символе. Миф раскрывает непостижимую по своей сути сущность в ее обнаружениях, энергиях. В отличие от эссенциалистской концепции П. Флоренского, эта концепция напоминает православный энергетизм, в соответствии с которым Бог, будучи принципиально недоступным познанию в своем существе, усии, – достоверно раскрывает себя в своих действиях-выступлениях, энергиях. Точно так же предикативная теория мифа Вяч. Иванова постулирует, что сущность постигается не в своем существе, но в своих действиях и претерпеваниях. И подобно тому, как в православии человек не может соединиться с Богом по сущности, но может по энергиям, так и в теории мифа Вяч. Иванова человек способен посредством мифа воспринять умопостигаемую сущность в ее действиях и энергиях, усвоить их и, начав с преображения собственного сознания, а затем, соединившись с другими людьми, разделяющими этот миф, в единую общность, совместными сознательными и целенаправленными усилиями приступить к преображению разрозненного мира в мир положительного всеединства.
Список литературы Символ и миф как инструменты теургического преображения действительности у о. Павла Флоренского и Вяч. Иванова
- Гоготишвили Л.А. Между именем и предикатом (символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия) // Л.А. Гоготишвили Непрямое говорение. М., 2006. С. 15–103.
- Зеньковский В.В. Эстетические воззрения Вл. Соловьева // В.В. Зеньковский. Собрание сочинений. Т. 1. О русской философии и литературе: Статьи, очерки и рецензии (1912–1961). М., 2008. С. 246–257.
- Иванов Вяч. Две стихии в современном символизме // В.И. Иванов. Родное и вселенское. М., 1994а. С. 143–169.
- Иванов Вяч. Достоевский. Трагедия–Миф–Мистика // В.И. Иванов Собрание сочинений: в 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 483–590.
- Иванов Вяч. О границах искусства // В.И. Иванов. Родное и вселенское. М., 1994б. С. 199–217.
- Иванов Вяч. Поэт и чернь // В.И. Иванов. Родное и вселенское. М., 1994в. С. 138–142.
- Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. М., 1988а. Т. 1. C. 581–756.
- Соловьев В.С. Общий смысл искусства // Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. М., 1988б. Т. 2. С. 390–405.
- Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. М., 1992. 559 c.
- Флоренский П.А. Иконостас. М., 1995. 254 с.
- Флоренский П.А. Мысль и язык // Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 109–350.