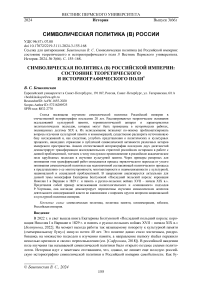Символическая политика (в) Российской империи: состояние теоретического и историографического поля
Автор: Бешкинская В.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Символическая политика (в) России
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению символической политики Российской империи в отечественной историографии последних 20 лет. Рассматриваются теоретические основания исследований культурной памяти, терминологический аппарат и характеристики политологических подходов, которые могут быть применены в исторических работах, посвященных долгому XIX в. Их использование позволяет по-новому проблематизировать вопросы изучения культурной памяти и коммемораций, существенно расширить источниковую базу исследований и, как следствие, углубить представления о политических и культурных процессах, нашедших отражение в публичной символической активности различных акторов имперского пространства. Анализ отечественной историографии последних двух десятилетий демонстрирует трансформации исследовательских стратегий российских историков в работе с данной проблематикой, толчком к чему послужило проникновение в российское академическое поле зарубежных подходов в изучении культурной памяти. Через примеры реперных для понимания этих трансформаций работ описывается процесс эвристического перехода от узкого понимания символической политики как малозначимой составляющей политического процесса к представлению о ее многосторонности, многоакторности и взаимосвязанности с культурной, национальной и социальной проблематикой. В завершении анализируется актуальная для данной темы монография Екатерины Болтуновой «Последний польский король: коронация Николая I в Варшаве в 1829 г. и память о русско-польских войнах XVII - начала XIX в.». Представляя собой пример использования политологического и «смешанного» подходов Р. Уортмана, она наглядно демонстрирует перспективы изучении символических аспектов деятельности самодержавной власти во взаимосвязи с широким кругом вопросов национальной и культурной политики империи.
Символическая политика, политика памяти, коммеморация, юбилеи, российская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/147246544
IDR: 147246544 | УДК: 94(47). | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-155-168
Текст научной статьи Символическая политика (в) Российской империи: состояние теоретического и историографического поля
В 2022 г. в свет вышла книга Екатерины Болтуновой «Последний польский король: коронация Николая I в Варшаве в 1829 г. и память о русско-польских войнах XVII – начала XIX в.» [ Болтунова , 2022]. На момент выхода работы так называемому повороту к культурной памяти («мемориальному буму») минуло почти 40 лет. Это понятие давно стало зонтичным, раздробившись на множество подходов к изучению памяти, а направление memory studies пережило несколько кризисов и «волн» переосмысления (см. [ Сафронова , 2018]). В российской академии поле изучения так называемой символической политики было открыто позднее силами политологов. Историки идут с заметным отставанием, что, однако, не лишает еще молодую российскую историографию символической политики в Российской империи самобытности. Как бу-
дет показано ниже, российский историографический «мемориальный бум» обозначился в начале 2010-х гг. За эти годы репертуар исследований памяти и коммеморации в имперской России пополнился множеством статей, кандидатских работ и сборников. Эта статья посвящена обзору той русскоязычной историографии символической политики имперской России, которая демонстрирует этапы развития названного поля. Теоретическая часть текста призвана терминологически и концептуально обрисовать логику и возможности обращения историков к политологическому инструментарию, а финальная – проанализировать его применение в последней на сегодня работе, выполненной в этом ключе и ставшей поводом для этого разговора, ‒ монографии «Последний польский король: коронация Николая I в Варшаве в 1829 г. и память о русско-польских войнах XVII – начала XIX в.».
Теоретические основания изучения символической политики имперского периода: между политологией и антропологией
Теоретические посылки изучения коллективной памяти и коммеморации, становление методологических подходов и используемый инструментарий на сегодня достаточно проанализированы исследователям, в том числе в учебных пособиях [ Сафронова , 2019]. Между тем ключевое для этой статьи понятие символической политики, ее более узкие направления и их соотношение с прочими подходами к изучению символической составляющей политики необходимо прояснить.
Понятие культурной памяти применяется в исследованиях memory studies довольно широко, подразумевая под собой коллективную память, которая, в отличие от личной, является более долговременной, передается от поколения к поколению и формирует представления о групповых, в том числе национальных, идентичностях [ Ассман , 2004]. Культурная память опосредована различными институтами, способами коммуникации, ритуалами и мифами, в производстве и поддержании которых не последнюю роль играют политические акторы, интерпретирующие социальную реальность в собственных интересах. Пространство политического действия, где предметом продуцирования и интерпретации являются не материальные, не «реальные», а символические аспекты, в политологии называют символической политикой. По определению О. Малиновой, символическая политика – это «публичная деятельность, связанная с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование» [ Малинова , 2018, с. 31]. Таким образом, культурная память – наиболее широкая исследовательская дефиниция, политический аспект в изучении которой выделяется в более узкое поле исследований символической политики (symbolic policy).
В свою очередь, зонтичное определение символической политики вбирает в себя более узкие политологические понятия, среди которых политика памяти играет для этого разговора особую роль. Политика памяти фокусируется на анализе многочисленных государственных и негосударственных акторов и их политик по актуализации и утверждению определенных представлений о прошлом с целью укрепления собственной интерпретации текущего социального порядка.
Политические силы, заинтересованные в особом понимании и интерпретации прошлого, традиционно называют мнемоническими акторами. Предложившие это понятие М. Бернхард и Я. Кубик сформулировали подход к исследованию политики памяти как изучение совокупности взаимодействия различных акторов [ Bernhard , Kubik , 2014, р. 4]. Пересекаясь в области публичной истории, политики и общественные активисты используют прошлое как символический ресурс для формирования идентичностей разных групп [ Малинова , 2017, с. 7]. Политика памяти, таким образом, становится пространством столкновения различных идеальных представлений о социально-политическом устройстве общества и отражает структуру отношений власти и доминирования [ Forest , Johnson , 2011].
Символическая политика реализуется через продуцирование дискурсов, нарративов и мифов. Последний указывает не на искажение истории, а на способ интерпретировать в соответствии с различными политическими векторами те или иные события и явления. Они, в свою очередь, образуют целостный нарратив, за утверждение которого в общем политическом дискурсе борется отдельный мнемонический актор. Сильнейшим «идентификатором», способным навязывать категории и классификационные схемы, можно считать государство, поскольку оно обладает существенно большими, чем у других акторов, символическими ресурсами [Брубейкер, Купер, 2002, с. 151].
Политологический понятийный аппарат применим и к историческим исследованиям. В Новое время империя Романовых (как и большинство европейских монархий, см. [ Berger , Miller , 2015]) стояла перед необходимостью утверждения российской имперской и русской национальной идентичностей. Вопрос конструирования и поддержания идентичностей стоял и перед периферийными национализмами империи. Определяющей для возникновения этих идентичностей была идея общего прошлого, к которой обращалась как власть, так и независимые от нее или борющиеся с ней акторы. Важнейшими инструментами этой борьбы были ком-меморация исторических событий и активность вокруг памятных дат, символов и мифов прошлого. Кроме утверждения нужных идентичностей, самодержавию требовалось утверждать и собственную неограниченную власть.
Таким образом, теоретические основания изучения символической политики и политики памяти оказываются применимы к историческим исследованиям, позволяя сфокусировать внимание на сетях мнемонических акторов, без негативной коннотации деконструировать мифы, а также изучать взаимосвязь символической политики с политикой реальной, детализируя картину общего политического процесса.
Между тем мы практически не обнаруживаем прямого обращения российских историков к политологическому инструментарию в изучении символической политики прошлого, несмотря на то что работы по истории Российской империи могут напрямую этого касаться и воплощать соответствующие подходы. Можно сказать, что теоретически и методологически историография имперской России оказалась в зазоре между двумя направлениями изучения символических практик: политологическим symbolic policy, которое исследует современность, а также обращается к советскому периоду, и антропологическим, в фокусе которого остаются преимущественно Средние века. Во втором случае речь идет о политической антропологии, или новой политической истории, или изучении политической культуры ‒ направлениях, проницаемые границы которых на сегодняшний день оставляют терминологический аппарат не устоявшимся.
Этот подход силами последователей школы «Анналов» пришел на смену (как изначально казалось) классической политической истории и важнейшим предметом своего исследования сделал не политику элит, а феномен власти, ее символику и репрезентации: это была история не политики, а «политического», «власти во всех ее видах, включая символику и воображение» [ Кром , 2001, с. 373]. По замечанию Ж. Ле Гоффа во второй половине ХХ в. «отправной точкой истории глубинных политических процессов явилось изучение внешних аспектов, а именно – знаков и символов власти» [ Ле Гофф , 1994, с. 182]. Основное влияние на подход оказала, конечно, антропология, например, идеи К. Гирца, который подчеркивал важность изучения культурного выражения власти. Исследования этого направления предполагали, что власть реализуется не только через монополию на применение силы, но и через культуральное измерение. В анализ политического следовало вводить «элементы антропологии культуры» [ Колоницкий , 2012, с. 8]. Такой антропологический поворот существенно обогащал пространство доступных для исследования источников, вводя в оборот материальные и нематериальные объекты, художественные образы, невербальные символы. Характерно, что разработан этот подход был в первую очередь на материалах средневековой Европы, основная масса работ «антропологической истории» в России также посвящена Средним векам и так называемой потестарной имаго-логии – символической репрезентации и сакрализации монархической власти.
Кажущаяся близость подхода потестарной имагологии и символической политики к изучению репрезентаций власти опровергается их важным различием: первая рассматривает линейный одноакторный процесс символического утверждения власти, вторая – многоакторный. Само понятие политики предполагает включение в политический процесс массовой аудитории и противоборство различных сил. В работе Б. Андерсона показано, как процесс десакрализации монархической власти в Новое время заставил ее к XIX в. начать работу с новыми способами собственной легитимации, одним из которых стал национализм [Андерсон, 2016]. «Божествен- ный авторитет уже не защищал королей» [Хобсбаум, 1998, с. 39], а абсолютистский миф, столь долго легитимирующий европейские режимы, ко второй половине XIX в. оказался в ситуации, когда его оправданность необходимо было специально доказывать [ Соловьев, 2018, с. 53].
Чтобы понять, какой из подходов ‒ политологический или антропологический ‒ в большей степени применим к изучению Российской империи, нужно задаться вопросом: в какой мере практики символической репрезентации самодержавия можно назвать политикой?
Ответ на это может дать ставшее классическим исследование символической репрезентации российского самодержавия - работа Р. Уортмана о «сценариях власти», изданная в 1995 г. на английском языке и в 2002 г. на русском. Уортман подчеркивает, что символический «театр» XVIII в. исполнялся прежде всего для самих элит, демонстрировавших свое отстранение от простых подданных империи, и особо сакрализировал образ монаршей власти [ Уортман, 2002, с. 20]. Период правления Александра I с Наполеоновскими войнами стал переломным: в его сценарий власти был включен народ, а публичная коммеморация событий прошлого обрела небывалое прежде значение [Там же, гл. 8]. Накануне 1812 г. в российский общественный дискурс вошли Смута и Смутное время, и уже в риторике вокруг Отечественной войны этот период был идеологически оформлен как одно из ключевых памятных национальных событий. В 1806‒1807 гг., как замечал А. Зорин, был создан исторический канон восприятия Смуты. Уже «в первой половине 1830-х гг. поход Минина и Пожарского на Москву и Земский собор 1613 г. были окончательно канонизированы как мифологическое возникновение российской государственности» [ Зорин , 2001, с. 161]. Характерно, что именно с начала XIX в. Уортман расширяет свое исследование от сугубо элитарных практик в сторону их общественного восприятия, уделяя внимание институтам, способам коммуникации, ритуалам и мифам, которые составляют предмет изучения символической политики. Труд Уортмана, таким образом, совместил в себе антропологический и политологический подходы, усиливая их в разных частях работы в зависимости от изучаемого исторического ландшафта.
Условный отсчет символической активности самодержавия в публичной политике можно вести с начала XIX в. Таким образом, понятие и инструментарий изучения символической политики обоснованно применимы к долгому XIX в. в истории России, что, однако, не говорит о том, что антропологический подход в изучении имперской политики оказывается неактуальным. Сегодня он представлен прежде всего исследованиями поздней империи, что логично вытекает из характера политического пространства этого периода. Так, антропологический взгляд оказался важным для изучения политической культуры периода революции 1917 г. (см., например, [ Аксенов , 2022]), а новая политическая история Российской империи представлена широким кругом работ, раскрывающих логику разворачивания политического процесса в империи начала ХХ в. (см., например, [ Соловьев , 2011]).
Монография Болтуновой - наглядный пример исторической работы, выполненной на пересечении двух полей ‒ символической политики и более узкой политики памяти. Посвященная первой трети XIX в. и разделенная на две части, она характеризует, во-первых, символическую сторону репрезентации российской власти в Царстве Польском в связи с коронацией там Николая I в 1829 г. (символическая политика), во-вторых, представляет позиции самодержавия и польских элит, а также российское общественное мнение в работе с неудобными для выстраивания русско-польских отношений историческими событиями (политика памяти). Это исследование оказывается близким «смешанному» уортмановскому подходу в изучении символической политики Российской империи и политологическому - в исследовании политики памяти начала XIX в.
При этом нельзя сказать, что книга «Последний польский король…» первая в этом поле. Оно разрабатывается с начала нулевых и особенно активно в последние 10 лет. Это пространство уже поддается анализу и выявлению общих тенденций для, казалось бы, еще довольно разнородных и редких исследований. Не претендуя на исчерпывающее описание историографического ландшафта и охват всех работ, следующая часть предлагает взгляд на динамику развития исследований символической политики самодержавия и опорные для понимания этого процесса работы.
Поле исследований символической политики в истории Российской империи
В 2005 г. историк К. Цимбаев обратился к феномену коммеморативного бума, случившегося в правление Николая II. Исследователь назвал этот период «юбилееманией» [ Цимбаев , 2005] и определил такую коммеморативную избыточность как свидетельство слабости власти, неопределенности ее политического направления и в целом ее агонии. 300-летие дома Романовых, праздновавшееся за год до начала разрушительной для империи войны, он описал как квинтэссенцию неудачной, неорганизованной работы власти с народом. Цимбаев подчеркнул отстраненность этого народа и навязанную ему роль стороннего наблюдателя за дорогостоящими и помпезными празднованиями, парадокс которых был в том, что их целью была мобилизация масс в поддержку царя. Однако политическое исполнение и идеологическое оформление торжеств со стороны самодержавия были столь неумелыми, что не позволяли даже определить, к чему самодержавие призывало и каковы были его лозунги. При этом «единственный внятный призыв юбилейной кампании – к сплочению вокруг трона – не мог быть воспринят в обществе с пониманием, поскольку не отвечал на главный вопрос – во имя чего» [Там же, с. 105].
Впоследствии автор развил свой подход: юбилееманию начала века Цимбаев вписал в более широкий контекст как прямое продолжение юбилейной культуры императорской России, развивавшейся с начала XIX в. вплоть до наших дней, и представил ее как апогей, когда «односторонний коммуникативный процесс оказался недееспособным» [ Цимбаев , 2019, с. 78]. Анализируя российскую «праздничную культуру», Цимбаев пришел к выводу, что «на протяжении уже более чем двух столетий общественность, “общество”, не говоря уж о “простом народе”, не участвует ни в подготовке юбилея, ни в его проведении (подчас даже и в роли зрителя), ни в обсуждении способов отмечания юбилея и даже самого его факта» [Там же, с. 75].
Открытая оценочность и обобщенные выводы в работах Цимбаева исчерпывали тему: интерпретация юбилеев как агонии и фокус на двух их участниках – царе и безучастном народе – не предполагали постановки новых вопросов как минимум потому, что для взгляда на второго участника не удалось бы найти достаточных источников. Юбилей при таком подходе имел статус малоинтересного события, а исследовательский интерес к символической политике самодержавной власти должен был оказаться бесплодным, поскольку сама эта политика не имела глубоких смыслов.
Работы Цимбаева хорошо высвечивают проблематику изучения актов коммеморации в рамках реализации политики памяти. Обращаясь к международному контексту, выявляя милитаризованный и религиозный характер российских торжеств, проводя подсчеты и предпринимая попытки систематизации юбилеев, автор тем не менее отказал им в более широкой контек-стуализации. Это сделало любой юбилей событием, лишенным смысловой и политической основы, за тем исключением, что власть якобы пыталась прикрыть своим обращением в прошлое нежелание проводить реформы. Негативная интерпретация этих юбилеев как пустых и помпезных мероприятий при таком подходе была предопределена. Предопределен был и вывод о «недееспособном одностороннем коммуникативном процессе», поскольку заведомо не были охвачены взглядом прочие вовлеченные и откликавшиеся на юбилеи акторы, которых, например, после Манифеста 17 октября в России было достаточно. Символическая политика не ограничивается реализованными помпезными празднованиями и феноменом праздника как такового. Представляя из себя плотную ткань взаимодействий многих уровней не только власти, но и общества, она обнажает их политические, социальные и культурные конфликты и/или точки соприкосновения. Юбилей же становится моментом их наибольшей проявленности. Характерным примером могут послужить и несостоявшиеся торжества: так, осмысляя запрет юбилея Тараса Шевченко в 1914 г., можно глубоко проблематизировать украинскую тематику и работу представительных учреждений (Думы, где проходили дебаты по этому вопросу) в поздней империи. Полтавские торжества 1909 г. также ставили власть перед неудобной в контексте малороссийского вопроса необходимостью работать с образом Мазепы. Празднование 100-летия Отечественной войны обнажало сложность взаимодействия с французской стороной, которая на момент его проведения была ближайшим союзником России. И так далее. Любой символи- ческий спектакль долгого XIX в. не существовал в оторванности от реальной политики, что, как представляется, исчерпывающе доказал еще Уортман.
Между тем именно Цимбаев стал первым российским историком, кто внимательно рассмотрел имперские юбилеи как самостоятельный феномен и предложил подход к их интерпретации. Совсем скоро эту тему стали разрабатывать и другие исследователи.
Развитию этого поля в России поспособствовали два обстоятельства: внимание историков к концепту памяти и взаимодействие с зарубежными коллегами. Одним из знаковых событий стал международный коллоквиум 2007 г. «Историческая память и общество в Российской империи и Советском Союзе (конец XIX – начало XX в.)», собравший в Петербурге 57 специалистов из России, США, Канады и Европы, в чье поле внимания входила историческая память. Некоторые доклады из двух секций («Российская империя: места памяти и политика памяти» и «Память региональная и этноконфессиональная идентичность») напрямую касались политики памяти. Характерно, что все они основывались на окраинных имперских кейсах: это направление для изучения символической политики и политики памяти империи закономерно продолжает занимать центральное место и сегодня. Наиболее примечательным для этого разговора является доклад М. Витухновской, которая сосредоточила свое внимание на политической борьбе вокруг памяти о войнах 1700‒1721 и 1808‒1809 гг. между российским имперским центром и Великим княжеством Финляндским [ Витухновская , 2007]. Прослеживая трансформацию памяти о «Финской» и Северной войнах в Финляндии, в том числе в контексте юбилеев, Витухновская описала их место в становлении национального исторического канона финнов и, как следствие, формировании образа русского захватнического правления. «Битва монументов», посвященных войнам, сопрягается в исследовании с параллельными процессами складывания финской национальной идентичности в эпоху «парада национализмов», а также с изменением направления политики имперского центра в отношении Великого княжества Финляндского. Особое внимание в анализе идеологической борьбы двух центров вокруг памяти о событиях прошлого уделяется общественности и акторам, в том числе личностям, способствовавшим утверждению одного из противоборствовавших нарративов. Витухновская формулирует важный тезис о том, что политическое превосходство одной из сторон не всегда подтверждало ее идеологическое доминирование: «имперская историческая память в Финляндии проигрывала местной, национальной – сначала на символическом, а впоследствии и на реальном историческом поле» [Там же, с. 58]. Эта работа – яркий пример изучения политики памяти империи в ее многоакторном измерении, где реперные точки юбилеев вписываются в широкий политический, общественный и мемориальный контекст.
Если работа Витухновской по политике памяти была редкостью для 2000-х гг., то спустя пять лет, в начале 2010-х гг., исследовательский интерес к символической политике бурно пробудился вместе с общественным при воздействии внутреннего политического катализатора. Крупные юбилеи имперской истории – 200-летие Отечественной войны 1812 г. и 400-летие пришествия к власти Романовых – широко отмечались и освещались в 2012 и 2013 гг. Они праздновались в момент смещения фокуса российской исторической политики от внешнеполитического контекста к внутриполитическому. Актуализировалась повестка о непрерывности исторического пути Российского государства от Рюрика до Путина. Произошел «отказ от защиты советского периода в качестве основного источника положительного наследия» [ Миллер , 2015, с. 17], роль более ранних периодов в исторической политике повысилась. Это закономерно привлекало внимание историков, а еще – исследователей политики памяти, которые наблюдали за внутриполитической повесткой.
В отклике на торжества и наука, и политика стали ретроспективно связывать исторические и современные юбилейные даты в единый трансформирующийся канон, что пробуждало интерес к нему в долгой исторической перспективе. Многие российские исследователи политики памяти хронологически углубились в своем анализе актуальных для текущего политического контекста мемориальных процессов. При этом историки в междисциплинарном взаимодействии с политологами и социологами подпитывались новыми для них эвристическими стратегиями работы с культурной памятью и символической политикой. Здесь отчетливо заявили о себе акторный подход, анализ мифотворческих стратегий, нарративов, символов и прежде всего практик коммеморации исторических событий. Для историков это стало поводом вспомнить коммеморативные кампании прошлого, связывая их с настоящим, а в дальнейшем ‒ рассматривая как самостоятельный предмет исследований. История функционирования образов культурной памяти во временной перспективе теперь оказалась сопряжена с вниманием к политике памяти и действующим в ней силам.
200-летие Отечественной войны 1812 г. пополнило российскую историографию исследованиями, деконструирующими памятный канон о войне и его символах на протяжении разных этапов их функционирования. Накануне юбилея внимание к истории актуализировалось через «осмысление государственной и национальной идентичности в России» [Война 1812 года и концепт «отечество», 2012], а по прошествии – через актуальную повестку российской политики памяти, что получалось сделать благодаря временному зазору по прошествии современного юбилея.
В 2015 г. вышел сборник «Два века в памяти России: 200-летие Отечественной войны 1812 г.». Его идея заключалась в том, чтобы исследовать сам юбилей 2012 г., однако из 12 статей сборника три носили историографический характер, а две из них проблематизировали поле изучения символической политики Российской империи. В. Лапин представил в этом сборнике одну из первых после Витухновской исторических работ, выполненных в русле изучения символической политики. Он вписал юбилей 1912 г. в широкую картину мемориальной коммемо-рации войны на протяжении всего XIX в., анализируя при этом функционирование памятных сюжетов в коллективной памяти. Юбилей был вписан и в контекст военной истории: на характер торжеств 1912 г., как подчеркнул Лапин, повлияли результаты вооруженных конфликтов второй половины XIX – начала XX вв. С Крымской войны Россия не имела громких военных успехов, пригодных для бесконфликтного утверждения победного мифа, а после Русско-японской войны «израненное национальное самолюбие нуждалось в бальзаме» [ Лапин , 2015, с. 25‒26]. В это же время в пространстве политики разворачивались «войны памяти», ярчайшим примером которых было мемориальное противостояние имперского центра Великому княжеству Финляндскому. Лапин особо артикулировал аспект политического использования юбилеев и проанализировал полемику по их поводу различных политических сил.
Характерно, что вышедший в следующем году сборник «400-летие дома Романовых: политика памяти и монархическая идея, 1613‒2013» уже напрямую подчеркивал ретроспективность включенных в него исследований. Из тех же 12 статей историографическими стали шесть. «Романовский миф» в нем интерпретировался как «политическая технология», утверждавшая боярский род на вершине власти, где мифотворчество было основным приемом конструирования [ Лапин , 2016, с. 13]. Во введении Лапин подчеркивал, что сборник не подводит итоги, а предлагает начать дискуссию по вопросам политики памяти в ее исторической перспективе [Там же, с. 22]. Можно сказать, что с середины 2010-х гг. политика памяти в Российской империи начала функционировать как самостоятельная область исследований. Широкий тематический охват статей сборника это подтверждал и обрисовывал перспективы поля: начиная с того, как из переплетения права, бюрократических норм и интересов различных групп населения зародился романовский миф, исследования прослеживали функционирование властных нарративов и работу с исторической памятью в контексте межнационального напряжения, военных конфликтов и международных отношений. Интересно, что три указанных направления составили тематический костяк исследований политики памяти имперской России в последующие годы.
Таким образом, параллельно интенсивной разработке тематики политики памяти на современном материале в России явно обозначились тенденции применения политологического подхода к историческим исследованиям символической политики имперского периода. Важную институциональную роль при этом сыграл Европейский университет в Санкт-Петербурге, где позднее на базе факультета истории был создан Центр изучения культурной памяти и символической политики. Значительная часть работ, о которых идет речь в этой статье, была опубликована в Европейском университете.
Таким образом, в актуальных отечественных работах по имперской символической политике можно выделить несколько тенденций. Первая – приверженность продолжительной вре- менной перспективе, анализ исторической памяти и политики памяти в динамике. При таком подходе авторы выявляют разницу общественных и политических контекстов, определявших характер функционирования отдельных исторических мифов и образов. Последняя на сегодня публикация, выполненная в этом ключе, - книга М. Федотовой о культурной памяти о Севастопольской обороне 1854-1855 гг. [Федотова, 2022] - обнажает еще две тенденции: закономерный для империи фокус на долгом XIX в., а также на памяти о военных событиях. Память о войнах как стержневой элемент формирования национальной и вообще коллективных идентичностей представляет, пожалуй, центральный предмет изучения символической политики империи. Так, российская историография уделяет особое внимание Отечественной войне 1812 г. как крупнейшему для памяти имперского сообщества военному событию, увенчавшемуся триумфом русского оружия и конституирующему впоследствии имперскую идентичность (см., например, [Дмитриева, 2019]). Следующий тренд - исследования конструирования памяти об исторических событиях в России в сравнении с теми же процессами в странах Европы. Здесь войны вновь утверждаются на первом месте: ставшие частью исторического прошлого различных государств, они по-разному осмыслялись их обществами и властями связи с доминировавшими в различные периоды внутри- и внешнеполитическими ориентирами. Подобные исследования зачастую выходят за хронологические рамки имперского правления, представляя процессы национального памятования и политического использования прошлого вплоть до современности (см., например, [Постникова, 2013]). Наконец, исследования символической политики империи разительно сосредотачиваются на юбилеях. Практически все опубликованные на сегодня работы фокусируются на юбилейных празднованиях как на реперных точках, позволяющих сделать ситуативный срез состояния памятного ландшафта и символической политики империи.
В 2020 г. была издана коллективная монография, вобравшая все эти тенденции и ставшая по-своему промежуточным итогом теоретических поисков отечественных историков в поле изучения символической политики. Книга «Война, политика, память: Наполеоновские войны и Первая мировая война в пространстве юбилеев» отличалась не только обширным фактическим материалом, но и разработанной теоретической программой исследования. Опираясь на концепции исторической (а также коммуникативной и культурной по Я. Ассману) памяти и политической культуры, авторы постулировали свое внимание к двум полям символической политики ‒ политике памяти и исторической политике. Внимание как к внутринациональным, так и к межкультурным аспектам военных коммемораций было теоретически определено синтезом двух подходов, соединявших политический и культурно-психологический аспекты политики памяти: первого, фокусирующегося на процессах формирования национальных идентичностей, и второго, транскультурного, где приоритетен антропологический взгляд, подчеркивающий первостепенность человеческих переживаний и военных опытов. При такой оптике в центре оказались «связи между историческим контекстом, общественно-политическими процессами, переосмыслением опыта войны и мемориальными практиками» [Война, политика, память..., 2020, с. 20].
Авторы обратились к празднованиям победы в Отечественной войне. Трансформирующуюся историческую политику самодержавия в отношении событий 1812‒1814 гг. они вписали в общественный контекст их осмысления: к первому крупному юбилею 1839 г. возобладала трактовка войны как торжества самодержавно-патриархальных сил над идеей западного либерализма и космополитизма [Там же, с. 190]. Однако в эпоху Великих реформ случился сдвиг общественного восприятия прошлого, основой которого стала критика либеральной оппозицией идеи единения царя с народом. Настроения общества этого периода во многом определили утверждение толстовского канона восприятия войны с его «разгероизацией» самодержавия. Деконструируя историософские взгляды Толстого, авторы развернули картину полемики вокруг романа, которая тем не менее даже при участии видных историков не смогла помешать канонизации текста, определившего коллективное восприятие событий Отечественной войны в России вплоть до наших дней (см. [Lieven, 2009; Миллер, 2013]). В свою очередь, в столетний юбилей войны 1912 г. случился еще один поворот восприятия, на этот раз со стороны самодержавия: внешнеполитическое сближение с Францией определило новое отношение к бывшему врагу как к храброму сопернику, а ныне ‒ важнейшему союзнику. При подготовке юбилея ост- ро стоял вопрос о необходимости участия в нем французской стороны, а также коммеморации подвигов французской армии с помощью монументов. Описывая эти изменения, авторы опирались не только на фактическую церемониальную сторону торжеств и формальную дихотомию царь ‒ народ, но и на широкое пространство деятельности историков, писателей, художников, а также анализ динамики в переформатировании политики памяти и общественного восприятия событий войны. Результатом такого подхода стала «многослойная» и многоакторная картина трансформаций коллективной памяти и коммеморативной политики от юбилея к юбилею.
Изучение символической политики долгого XIX в. все еще заметно менее развито, чем изучение памяти и политики памяти вокруг событий ХХ в. Тем ценнее редкие работы, узко посвященные имперскому периоду, среди которых до недавнего времени не было монографий. 2022 г. в этом смысле стал знаковым: в свет вышли сразу две книги ‒ Федотовой и Болтуновой. Если работа первой хорошо иллюстрирует доминанты подхода российских историков к изучению символической политики, то текст Болтуновой оказывается выполненным вне общих тенденций разработки этого поля, он заслуживает отдельного разговора.
Польский вопрос в символической политике и политике памяти самодержавия первой трети XIX в.
Болтунова сосредотачивается на польской коронации Николая I в 1829 г., разворачивая вокруг одного кейса широкую картину символических, коммеморативных и политических процессов в Петербурге и Варшаве на протяжении нескольких десятилетий. Коронационные торжества при таком подходе стали не только формальным действом, обеспечившим преемственность политики Николая с предыдущим правителем и практически лишенным в будущем историографического внимания, но и яркой иллюстрацией проблем позиционирования российской власти в Царстве Польском.
Плотное описание подготовки, проведения и результатов события детализируется через личностный, исторический, внутри- и внешнеполитические контексты. Следуя завету старшего брата и воплощая александровский подход к трактовке русско-польских отношений, Николай принял участие в торжествах, принося «в жертву» собственные чувства и представления [ Болтунова, 2022, с. 90], уступая при этом инициативу в их организации брату Константину, при том что их отношения определяло негласное соперничество. Интересно, что ни коронация, ни последующее празднование 15-летия Царства не были вписаны в систему общероссийских коммемо-раций и церемониальных практик, выполняя исключительно «внутрипольскую» символическую функцию. Для торжеств 1829 г. была избрана польская коронационная традиция, конфессиональный аспект торжеств оказался смещен в пользу католичества, а официальная риторика в отношении поляков оформлялась через образ храбрых братьев. Каждое из символических обстоятельств имело политический подтекст: установившаяся с 1815 г. логика отношения центра к Царству предполагала поддержание автономии и европейской самобытности территории, об утверждении в нем православия не было и речи, а риторическая и практическая образность была выработана еще в александровскую эпоху - это категории братства, любви, а также постулирование если не иерархического превосходства, то очевидного равенства поляков и русских. Все это было плодом символической политики Александра I, видевшего в польских подданных новую лояльную самодержавию группу после собственных репутационных провалов перед русскими: в 1812 г. и более раннего в 1801 г. с его попустительством в свержении и убийстве собственного отца. Александр нашел в Царстве Польском «место эмоционального комфорта и безопасности» [Там же, с. 273], формируя тем самым «эмоциональное сообщество» с поляками.
В свою очередь, в польском обществе утверждалось понятие благодарности за дарованные политические свободы, прежде всего за «прощение» / забвение событий 1812 г. Предлагая пересмотреть доминирующий историографический подход к интерпретации русско-польских отношений, Болтунова особое внимание сосредотачивает на анализе «механики замещения», когда «вчерашний враг перекодировался в участника славянского товарищества или содружества» [Там же, с. 340]. Память о прошлом в такой оптике становится фундаментом для деконструкции политики властей. Если первая часть книги посвящена прежде всего политике симво- лической – логике устройства и проведения коронационных торжеств, то вторая – политике памяти, где в центре стоит вопрос о том, каким образом в первой трети XIX в. силами властей и обществ преодолевались неудобные для нового нарратива взаимодействия события прошлого и их прежние интерпретации. «Забыть» здесь требовалось Смуту и 1812 г., когда поляки либо претендовали на роль сокрушителя русской государственности, либо пытались содействовать в том Наполеону.
С 1815 г. в течение 15 лет непрерывно утверждалась категория братства народов, в которой новое Царство Польское практически сразу же с окончательным разгромом Бонапарта обнаружило себя в новом, транслируемом самим Александром образе пострадавших, но не в образе врагов и предателей Российской империи. Идея славянского братства сопрягала два нарратива – внутриполитический и внешний. В первом трактовка Отечественной войны имела религиозно-мистические и национальные коннотации, тогда как во втором первостепенны были события Венского конгресса и общеевропейских (не российских) дипломатических достижений, 1812 г. был вынесен за скобки [Там же, с. 333]. Тем самым в польском вопросе обнаруживала себя ситуация, когда русское общество и его мнение, столь часто становящееся предметом внимания историков, оказались вне символической «игры» русско-польских отношений, став одной из двух аудиторий двоякой политики памяти.
Каковы были результаты этой двусторонней, противоречивой символической и памятной политики самодержавия? Ответ на это довольно отчетлив: в 1830 г. в Царстве Польском вспыхнуло восстание. Николай, уверенный в том, что его формальное следование александровскому «контракту» с поляками было верным, долго не мог решиться на силовое подавление вчерашних «братьев», чья воспетая храбрость стала теперь воинственностью. Между тем даже после подавления восстания в 1831 г. идея «забвения» со стороны самодержавия не погибла. Она будет востребована и в будущем: завершая, Болтунова кратко рисует картину русско-польского противостояния ХХ в. и обращается к 1945 г. – тогда «механика забвения» русско-польских конфликтов вышла на новый виток.
Исследуя символическую политику эпохи ее зарождения, автор фокусируется на факторах личностного восприятия как прошлого, так и актуальной политики со стороны самодержцев. В отличие от эпохи публичной политики, например, после 1905 г. в России и общественных пространствах других стран, первая треть XIX в. для Российской империи была пока что временем, где политикой, в том числе исторической, дирижировала власть. Между тем императоры не находились в вакууме: будучи окруженными сановниками, военными, родственниками, возлюбленными, они ярко являли себя перед ними. Используя внушительное количество мемуаров, дневников и воспоминаний, Болтунова выявляет личностную, часто высокоэмоциональную прагматику действий правителей, их восприятия прошлого и настоящего. Такое внимание к индивидуальному высвечивает и мотивы сановников, которые были частью символического спектакля. Многочисленные сюжеты и обстоятельства монументальной, литературной, исторической и изобразительной коммеморации также важны для этой книги и украшают ее, но являются не первостепенными, как в большинстве исследований, а вторичными – следствиями и иллюстрациями утверждаемой самодержцами политической линии в отношении прошлого. Исследовательская оптика здесь настроена на узкий хронологический период и специфическое время зарождения в России публичной политики, что и определило характер работы с источниками.
Таким образом, одно малоизученное символическое событие сопрягается с широким кругом внутри- и внешнеполитических вопросов периода правлений Александра I и Николая I, уточняя при этом столь же широкий круг историографических клише и суждений, связанных с изучением русско-польских отношений периода империи, и формулируя новые вопросы, которые могут быть развиты в русле авторского подхода Болтуновой. Без прямого проговаривания многочисленных концептов и подходов в изучении культурной памяти и символической политики эта книга оказалась самодостаточной и одновременно актуализирующей уортмановский способ интерпретации символической политики.
Заключение
Большой ли путь пройден за 20 лет отечественными исследователями символической политики и культурной памяти в Российской империи? – вопрос, на который нельзя дать однозначного ответа. С одной стороны, поле обнаруживает себя как самостоятельное и имеющее отчетливые внутренние тенденции, с другой – исследования по теме достаточно редки, а монографии – пока что исключение из правил. Теория исследований разрабатывается, но прежде всего путем заимствований. Заметна институционализация, но недостаточная, чтобы утверждать об оформлении направления как самостоятельного. Говорить о собственных школах и подходах не приходится. Впрочем, ни одно направление изучения памяти и исторической политики в России таковых не имеет. Между тем сегодня стало очевидно, что российские историки могут разрабатывать эту тему как с опорой на богатую зарубежную теорию, так и самостоятельно, утверждая при этом свои способы проблематизации и работы с материалом.
Список литературы Символическая политика (в) Российской империи: состояние теоретического и историографического поля
- Аксенов В. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914-1918). М.: Новое литературное обозрение, 2022. 992 с.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково поле, 2016. 416 с.
- Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.
- Болтунова Е. Последний польский король: коронация Николая I в Варшаве в 1829 г. и память о русско-польских войнах XVII - начала XIX в. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 560 с.
- БрубейкерР., Купер Ф. За пределами «идентичности» // Ab Imperio. 2002. № 2. С. 131-192.
- Витухновская М. «Битва монументов»: русско-шведские войны в национальной памяти империи и Великого княжества // Историческая память и общество в российской империи и Советском Союзе (конец XIX - начало ХХ века). СПб., 2007. С. 48-58.
- Война 1812 года и концепт «отечество». Из истории осмысления государственной и национальной идентичности в России: исследование и материалы / под ред. Е.Н. Строгановой, М.В. Строганова. Тверь: СФК-Офис, 2012. 688 с.
- Война, политика, память: Наполеоновские войны и Первая мировая война в пространстве юбилеев / под ред. Н.Н. Баранова, В.Н. Земцова; отв. ред. О.С. Поршнева. М.: Политическая энциклопедия, 2020. 551 с.
- Дмитриева О.О. Деятельность государственной власти и общества в российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года (XIX - начало XX века): дис. ... канд. ист. наук. Чебоксары, 2019. 226 с.
- Зорин А. Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII - первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 416 с.
- Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб.: Лики России, 2012. 320 с.
- Кром М.М. Политическая антропология: новые подходы к изучению феномена власти в истории России // Исторические записки. 2001. Вып. 4 (122). С. 370-397.
- Лапин В. 100-летие Отечественной войны 1812 года // Два века в памяти России: 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. СПб., 2015. С. 25-66.
- Лапин В. Предисловие. Романовы, 400 лет бытования мифа // 400-летие дома Романовых: политика памяти и монархическая идея, 1613-2013. СПб., 2016. С. 7-22.
- Ле Гофф Ж. Является ли все же политическая история становым хребтом истории? // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. М., 1994. Т. II, вып. 4. С.177-192.
- Малинова О.Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа // Полития. 2017. № 4 (87). С. 6-22.
- Малинова О.Ю. Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. С. 27-53.
- Миллер А. Юбилей 1812 года в контексте политики памяти современной России // Два века в памяти России: 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. СПб., 2015. С. 7-24.
- Миллер А. Dominic Lieven. Russia Against Napoleon: The True Story of the Campaigns of War and Peace // Pro et Contra. 2013. № 6. С. 163-165.
- Постникова А.А. Великая армия Наполеона на Березине: событие - память: дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2013. 254 с.
- Сафронова Ю.А. Историческая память: введение: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2019. 220 с.
- Сафронова Ю.А. Третья волна memory studies: двадцать три года против шерсти // Политическая наука. 2018. № 3. С. 12-31.
- Соловьев К.А. Идея самодержавия (конец XIX - начало XX вв.) // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 2. С. 48-69.
- Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906-1914). М.: РОССПЭН, 2011. 511 с.
- Уортман Р.С. Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии. М.: ОГИ, 2002. Т. 1. 608 с.
- Федотова М. Миф о Севастопольской обороне 1854-1855 гг. в культурной памяти Российской империи. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2022. 342 с.
- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. 308 с.
- Цимбаев К.Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца XIX – начала XX века // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 98-108.
- Цимбаев К.Н. Истоки юбилейной культуры императорской России // Диалог со временем. 2019. Вып. 67. С. 70-79.
- Berger S., Miller A. Building Nations in and with Empires - a Reassessment // Nationalizing Empires. Budapest: Central European University Press, 2015. P. 1-30.
- BernhardM., Kubik J. Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration. Oxford: Oxford University Press, 2014. 362 p.
- Forest B., Johnson J. Monumental Politics: Regime Type and Public Memory in Post-Communist States // Post-Soviet Affairs. 2011. Vol. 27, no. 3. P. 269-288.
- Lieven D. Russia Against Napoleon: The True Story of the Campaigns of War and Peace. New York: Viking, 2009. 617 p.