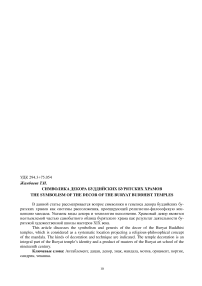Символика декора буддийских бурятских храмов
Автор: Жамбаева Туяна Иннокентьевна
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 1 (10), 2016 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается вопрос символики и генезиса декора буддийских бурятских храмов как системы расположения, проецирующей религиозно-философскую концепцию мандала. Указаны виды декора и технология исполнения. Храмовый декор является неотъемлемой частью самобытного облика бурятского храма как результат деятельности бурятской художественной школы мастеров XIX века.
Антаблемент, знак, мандала, мотив, орнамент, портик, чеканка
Короткий адрес: https://sciup.org/170179473
IDR: 170179473 | УДК: 294.3+75.054
Текст научной статьи Символика декора буддийских бурятских храмов
Декор буддийских храмов - одно из значительных достижений в бурятском искусстве. С ним связан высокий уровень пластического мышления мастеров, которые создали синтез архитектуры, резьбы, скульптуры, росписи, цветового звучания в облике бурятских буддийских храмов. Период строительства и декоративного оформления в сер. XIX в. в Забайкалье связывается с понятием "художественная школа", что свидетельствует о высоком уровне профессионализма, сплоченности, собственной манере исполнения, творческой переработке образцов храмового строительства соседних стран бурятскими мастерами. Большинство дацанов Забайкалья были построены "Оронгойской школой мастеров", также известны произведения школы хоринских дарханов, сформировалась традиция школы бурятских танкописцев. Благодаря деятельности мастеров XVIII в., XIX в., нач. XX в. мы можем сегодня говорить о бурятской художественной традиции в буддийском искусстве.
Декор в архитектуре бурятских храмов концентрируется в оформлении портиков, дверей, окон, карнизов и крыши. По технике исполнения его можно разделить на: резьбу по дереву, резьбу по камню, роспись, чеканку и технику создания монументально-декоративной скульптуры. По смысловому признаку декор делится на орнаментальный, как например, лотосовый, алхан хээ (бурят. молоточковый) или растительный орнаменты; а также, на знаковый, например, ваджра, ганжир, толи, сосуд бумба и др. В целом, концентрируется декор в украшении южного парадного портика в виде орнаментальных рядов антаблемента, число которых обычно варьировалось до шести. Декоративная композиция антаблемента повторялась в украшении дверных блоков, сандриков, в портиках второго или третьего ярусов, если храм был трехярусный. Таким образом достигалась декоративная целостность, гармоничное звучание всех ярусов храма, всего художественного облика храмового сооружения. Далее, основополагающее значение в соразмерности расположения декора имела религиозно-философская концепция мандала - буддийская модель Вселенной. С мандалой связано сложение системы расположения декора в архитектуре бурятских храмов, так как она является основой для всех произведений буддийского искусства, создающихся по канону. Буддийские храмы несмотря на разнообразное региональное объемно-пространственное композиционное строение имеют в своей идейной основе диаграмму мандала или гору Сумеру, ее центр. То есть система декора и вся архитектурная композиция бурятских храмов - это трехмерная проекция мандалы.
Бурятские храмы практически с XVIII в., времени начала строительства первых кошмовых, затем деревянных храмов имели собственное регионально-пластическое решение, связанное и с климатическими, географическими и историко-политическими факторами. Формирование школы бурятского зодчества датируется 30-40-ми гг. XIX в., временем появления нового типа бурятского цокчина, временем появления бурятских строительно-художественных артелей и, в первую очередь, школы оронгойских мастеров. Начиная с Гусиноозерского цокчин дугана, строятся монументальные храмы квадратные в плане несколько растянутые в широтном направлении: «30,08х25,80 м без портика (Агинский), 27,66х23,40 м без портика (Гусиноозерский)…" [2, с. 163]. С монолитным, чаще белоснежным нижним ярусом и ровными рядами окон боковых фасадов, с парадным южным портиком и системой бурятского ордера, легкими верхними деревянными ярусами - храмы данного типа во многом обрели своеобразный облик благодаря архитектурному декору.
У входа в храм, по обе стороны от крыльца, устанавливаются парные фигуры льва и львицы, один с шаром, другая - с львенком. Символически, фигуры львов являются верными служителями, охраняющими вход в храм. Художественная трактовка их облика напоминает больше собак с пышной гривой, укороченной мордой, так как отражает тибетский миф о снежном льве, который обитает в Гималаях. В культовом искусстве северного буддизма распространилось изображение снежного льва и в иконографии, и у подножия трона верховного ламы т.н. "львиный трон", и в виде скульптур львов у входа в храм. Также можно отметить, что парные фигуры льва имеют корни происхождения в древнекитайской мифологии. В тибетской иконографии "шар сравнивают с драгоценностью или солнечным диском..."- указывает Роберт Бир в книге "Энциклопедия тибетских символов" [1, с. 106]. Более древняя художественная традиция образа льва идет из Индии. Со львом отождествлялся Будда, к нему относится такой эпитет как Шакьясимха (санскр.) "Лев из рода Шакья", олицетворение силы и могущества. Образ льва широко представлен в памятниках буддийского искусства периода правления Ашоки (273-232 гг. до н.э.).
Двери и стены буддийского храма часто несут знак ваджры (санскр.) молния или алмаз; прежде всего функция ваджры в декоре связана с защитой. Как атрибут, в основном гневных божеств, класса дхармапал, ваджра превращается в жезл, который рассекает различные препятствия или врагов веры, обладая силой и энергией молнии. Символическая связь с молнией связана с индуистским происхождением ваджры как атрибута бога грома и молнии -Индры. Термин ваджра также звучит в названиях священных текстов - сутр, как приставка, обозначающая силу слова, например, "Ваджрачхедика" (Тибет), "Алмазная сутра" (Китай, IX в.). Нередко на стенах на уровне карниза первого или второго яруса размещали намчжуван-дан - молитву, обозначающую монограмму Калачакры, выполненную как орнаментальная каллиграфия.
Также дверные полотна расписывали благопожелательными орнаментальными мотивами: "шоу" (кит.) - знак долголетия, "алхан хээ" (бурят.) - молоточный узор, своего рода меандр, символизирующий движение жизни, использовали символику "улзы" (бурят.) - плетенку или узел долголетия и благопожелания; мотив "тумэн жаргалан" (бурят.) - буквально переводится "десять лет счастья", нередко размещали растительно-цветочные медальоны. Двери как и колонны в бурятских храмах традиционно имеют красный цвет, который несет значение огня, жизни. Несомненно, что пятитонная цветовая система, принятая в бурятском народном искусстве, сохранилась и развилась с распространением буддийского искусства. Красные колонны портиков-входов называли багана, как опоры в юртах, поддерживающих верхнее окно.
Колонны завершались квадратными капителями (бурят. хобто), четыре стороны расписывали мотивами перекрестной ваджры, облаков, парных колец. По обе стороны или над капителью сооружали кронштейны (бурят.) номо, не имеющие конструктивной функции, как и многие другие части антаблемента. В целом, портики храмов (бурят. добжо) представляют согласованную систему опор и перекрытий, при наличии колонн, капителей, антаблемента, то есть мы в данном случае можем говорить о бурятском ордере. Перекрытие представлено антаблементом, который насчитывает шесть орнаментальных рядов, свободно чередующихся, так как ряды перекрытий не несли первоначальную конструктивную нагрузку.
Обычно нижний ряд - эрхи (бурят. четки) выполняется в виде белых кружочков, имеющих сходство с рядами четок; в других частях храма не встречается. Далее, ряд тобируу - чередование квадратов и кругов торцевых сторон стропил. Затем, бантаб (тиб.) - орнаментальный ряд из лепестков лотоса. Образ лотоса широко применяется в буддийском искусстве всех стран индо-буддийского ареала, это основополагающий символ, иногда заменяющий мандалу - буддийскую модель Вселенной, также, лотосовый трон служит основанием как сидящих, так и стоящих божеств. Как орнаментальный узор в бурятских храмах он встречается в антаблементе, дверных блоках, оконных сандриках. Художники обычно применяли прием градации, плавного перехода тонов в орнаменте бантаб. Полоса фриза (бурят. хэжим) наиболее широкая из всех рядов антаблемента, в виде бардового фриза, на котором сияют медные диски толи. Толи (тиб., монг.) означает зеркало, таким образом, его сияние должно распространять свет учения, и тем самым отгонять злых духов. В качестве материала для изготовления толи применяют медь, обработанную в технике чеканки. Можно отметить интересное происхождение бардового фриза, имитация которого стала обязательной в декоре бурятских храмов. В Тибете храмы имеют форму цзонов - средневековых замков с контрфорсами и плоскими крышами, последние перекрывались брусом самшитового дерева, который со временем темнел, образуя со стороны фасада темно-бардовую полосу. Ряд гурби - фасонный брус для обшивки карниза. Далее, орнаментальный ряд "шубуун хоног" (бурят. ласточкино гнездо), вид геометрического орнамента, напоминает соты, вырезанные квадратиками в шахматном порядке. Композиция декоративных рядов антаблемента: бантаб, тобируу, шубуун хоног украшали двери и окна. Двери и окна также дополнялись орнаментальными мотивами, не входившими в антаблемент: тумэн жаргалан (бурят.) десять тысяч лет счастья; алхан хээ - молоточковый орнамент или меандр; хас тамга - бурятский орнамент на основе древнеиндийской свастики, символа движения солнца; орнаментальная композиция из трех кругов в чаше – гурбан эрдэни (монг., бурят.) или три драгоценности, в философии буддизма они обозначают Будду, Дхарму и Сангху.
Завершали оформление крыши следующие декоративные элементы: уняа (бурят.), ду-лэ (бурят.), жалцан (тиб.) и ганжир (тиб.). Уняа набивные бруски, имитирующие концы стропил на широких выступах карниза, под кровлей. Происхождение бурятского обозначения данных брусков связано с жердями, образующими каркасное перекрытие в бурятской юрте. Дулэ (бурят.) или бадра (монг.), ешей-ме (тиб.) то есть пламя, помещали на углах крыш как символ защиты от злых духов. Иногда декоративный элемент дулэ заменялся головами драконов или макар. Макары - это фантастические существа, имеющие собирательный облик: дракона, змеи, крокодила и слона, почитались еще в Древней Индии как олицетворение силы.
В центре южного парадного портика устанавливается композиция "Чойхорло" (монг.) Колесо учения. Скульптурно-декоративная композиция символизирует первую проповедь Будды в парке в Сарнатхе, и первых слушателей - двух ланей. Во времена правления Ашоки изображение Колеса заменяло образ самого Будды в статусе Чакравартина (санскр.) "тот, кто повернул колесо"; далее, колесо с восемью спицами означает учение Будды или дхарму. Данная композиция канонична в том плане, что в центре всегда помещается колесо, и две лани по обе стороны. Свободой отличается интерпретация ланей, сидящих или реже стоящих на простой подставке, которая могла быть украшена лотосовым орнаментом. Колесо чаще установлено на перевернутом бутоне лотоса как на подставке. Также основанием колеса могла служить бумба (спицы иногда декорируются цветами, растительными завитками, спицы могут оканчиваться "тремя драгоценностями", мотивами облаков. Вся композиция исполняется в технике чеканки по листовой меди, затем покрывается золотой фольгой.
Ганжир (тиб. полный сокровищ) - это знак веры, излучающий свет. Аналогично бумбе, которая закладывается в основании храма, на коньке крыши, по центру помещается ганжир. И в бумбу и в ганжир закладываются внутрь тексты молитв; так создается центральная ось сооружения, если рассматривать храм как модель Вселенной, соответственно концепции мандала.
По обе стороны от ганжира устанавливаются жалцаны (тиб. знак победителя). Технология та же, что и при создании ганжира, также во внутрь закладываются мани. Жалцаны дополняют "вазоподобный сосуд", если ганжир - знак веры, то жалцаны - знак победителя, это название они получили в связи с тем, что монахи тибетцы помещали знаки цилиндрической формы на высоких просматриваемых местах.
В заключении необходимо сказать, что декор в архитектуре бурятских храмов можно разделить на каноничный по расположению и символике - толи, дулэ, композиция Чойхорол, ганжир, жалцаны; и варьируемый, ими украшали некоторые ряды антаблемента, дверные полотна и блоки, оконные сандрики, перила окружных галерей и их декоративное оформление. В целом, по характеру расположения декор представляет систему, выявляющую основные точки геометрической диаграммы буддийской Вселенной - мандалы.
Список литературы Символика декора буддийских бурятских храмов
- Бир Р. Энциклопедия тибетских символов и орнаментов. М.: Ориенталия, Самадхи, 2011. 428 с.
- Минерт Л. К. Памятники архитектуры Бурятии. Новосибирск: Наука, 1983. 191 с.