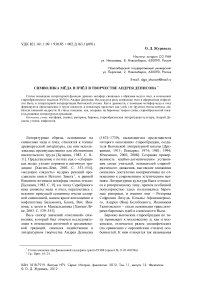Символика мёда и пчёл в творчестве Андрея Денисова
Автор: Журавель Ольга Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусская литература и книга
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена литературной функции древних метафор, связанных с образами меда и пчел, в сочинениях старообрядческого писателя XVIII в. Андрея Денисова. Исследуется роль символики пчел в оформлении мифологии Выга, в литературной интерпретации Выговской утопии. Как в древности, с помощью метафор меда и пчел формируется представление о труде писателя, а монастырь предстает как улей, где трудятся пчелы-монахи, любители книжной мудрости. В статье показано, как, опираясь на барочные теории слова, старообрядческий писательразвивал литературнуютрадицию.
Метафора, символ, риторика, барокко, старообрядческая литературная культура, андрей денисов, утопия, мифология
Короткий адрес: https://sciup.org/14737716
IDR: 14737716 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Символика мёда и пчёл в творчестве Андрея Денисова
Литературные образы, основанные на символике меда и пчел, относятся к топике древнерусской литературы, где они использовались преимущественно для обозначения писательского труда [Буланин, 1983. С. 8– 11]. Представление о поэтах как о «сборщиках меда» уходит корнями в античную традицию [Ханзен-Лёве, 2003. С. 553–554], «медовую сладость» мудрых речений прославляли книги Ветхого Завета 1, в ранней Византии возникла метафора «монах-пчела» [Буланин, 1983. С. 9], а в эпоху Серебряного века символы меда и пчел, переплетаясь с исконно присущей семантике пчелы солярной символикой, нашли яркое воплощение в мифопоэтике Бальмонта, Блока, Вяч. Иванова, а затем и Мандельштама [Ханзен-Лё-ве, 2003. С. 539–555].
Весь спектр значений «пчелиной» символики, который был отмечен исследователями в отношении античной и средневековой традиций, оказался задействован в литературном творчестве Андрея Денисова
(1674–1730), выдающегося представителя «второго поколения» старообрядцев, создателя Выговской литературной школы [Дружинин, 1911; Понырко, 1974; 1981; 1994; Юхименко, 2002; 2008]. Сохраняя приверженность идейно-догматическим установкам своих учителей, основателей старообрядческого движения, выговские книжники оказались достаточно восприимчивы по отношению к современным эстетическим веяниям. Литературная культура Выга относится к риторическому типу, причем особенной популярностью здесь пользовались барочные риторики, и именно они – Риторика Софрония Лихуда, Козьмы Афоноиверско-го, Андрея (Яна) Белобоцкого, Иоанникия Галятовского – стали основными трансляторами барочных идей в словесности Выга.
Барокко выговских старообрядцев по типу примыкает к московскому и, как и московское, отличается рядом специфических (по сравнению с европейским стилем) особенностей. К ним относится так называемая
* Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 11-01-00350а).
«умеренность», выраженная, в частности, в ограниченной рецепции ключевых барочных концептов [Панченко, 1973. С. 202–203; Черная, 2007. С. 73; Живов, 2007. С. 11–31], а также своеобразная рецепция одного из основополагающих принципов поэтики европейского барокко – «остроумия» (acumen) [Журавель, 2012]. Теория остроумия, сформулированная в начале XVII в. М. Сарбев-ским в трактате «De acuto et aeguto», постулировала особый тип образности, основанный на неожиданном, необычном сопряжении отдаленных на первый взгляд вещей и представлений. Принцип acumen лежит в основе европейского барочного ме-тафоризма [Морозов, Софронова, 1979; Лахманн, 2001. С. 86–115; Сазонова, 2006. С. 174–180], однако он достаточно умеренно проявился в творчестве таких русских представителей барокко, как Сильвестр Медведев, Евфимий Чудовский [Сазонова, 2006. С. 178].
Анализ теоретического материала выгов-ских риторик позволил нам прийти к выводу, что и выговские книжники достаточно осторожно восприняли барочный принцип остроумия, понимая под этим термином не только естественную остроту ума (смысл слова «остроумие», понятный протопопу Аввакуму и зафиксированный русскими лексикографами [Николаев, 2000]), но и умение опираться на логику, причем на аристотелевские категории, развернутый список которых сопровождает разделы об «остроумии» в выговских риторических кодексах 2. Ориентируясь на барочные теории текста, выговские авторы, и прежде всего Андрей Денисов, охотно прибегают к приемам, основанным на иносказании, метафоры и аллегории широко используются в проповедях выговского лидера, как и ряда его соратников по перу, однако практически все они не выходят за рамки того арсенала, которым располагала древнерусская словесность.
При этом Андрей Денисов создает множество вариантов развернутых метафор, наделяет метафорический ряд новыми смысловыми оттенками, свободно оперирует библейскими символами, выстраивая слож- ные семантические конструкции. Проповеднические сочинения старообрядческого автора (в большинстве своем пока не изданные) пестрят развернутыми метафорами и аллегориями, что вполне соответствовало барочным риторикам, утверждавшим теорию 4-х смыслов Священного Писания.
При помощи символики меда Андрей Денисов выражает концепцию писательского труда как мастерства, как проявления «любомудрия», немыслимого им, как и другими выговскими книжниками, без овладения риторикой, философией и прочими «науками», – того, что категорически отрицалось основателями раскола 3 [Панченко, 1973. С. 190–193, Лахманн, 2001. С. 32–40]. Основываясь на предложенном А. М. Панченко определении двух основных средневековых писательских типов как «апостола» и «мастера» [Панченко, 1973. С. 191–193], Н. В. Понырко на ряде примеров показала, что выговцы принадлежали ко второму типу [1994. С. 104–112]. Премудрость (понятие, воспринятое из ветхозаветных библейских книг) отождествляется выговскими книжниками с искусством словесности, а их символическим эквивалентом становится метафора меда.
Впервые наиболее отчетливо это выразилось в одном из совершенных творений Андрея Денисова, которое можно считать образцом барочной гомилетики, «Сотове медовни, словеса добра, сласть же их исцеление души. Словеса сия у премудраго Соломона в притчах в глав h 16 реченная суть» [Дружинин, 1912. С. 118, № 121] (ср.: Прит. 16: 24).
По свидетельству агиобиографа Андрея Денисова Андрея Борисова, сочинение было написано во время поездки Андрея Денисова в Киев в августе 1718 г. 4 как своеобразное испытание, представленное на суд учителей Киево-Могилянской академии.
Верифицировать биографическую основу Жития Андрея Денисова, написанного его последователем, достаточно трудно, но, учитывая мобильность выговского наставника, объезжавшего многие русские города в поисках книг для библиотеки Выга («овые покупаше, овые списоваше») 5, поездка «к первопрестолному граду Киеву» 6, весьма подробно описанная в Житии, могла иметь место.
Взяв фему из Притчей Соломона «Сотове медовни, словеса добра...», Андрей Денисов «...чрез сию фему люботщателно в немедленном времени сочини слово толико и таково всякому ученому и неученому сладостно и приятно, еще же и в страсти празднословия целително, яко праведно тому согласовати во всем с предвзятою оною премудрою фемою» 7. Прочтенное вслух перед слушателями академии, слово вызвало одобрение, а некоторые подумали, что оно «с греческого или с латинского переведенное». Выговский гость успешно выдержал даже нечто вроде экзамена «в сем риторском философском феологическом учении» 8.
Ключевая метафора сочинения, заданная цитатой из Притчей Соломона, выражает древнейшую мифологему: мудрое слово – мед. Мед считался символом духовной пищи богов у неоплатоников [Ханзен-Лёве, 2003. С. 554]: «Не вся словеса, яже глаго-лютъ челов h цы, добра суть, не вся премудрости медомъ помазана, не вся исц h ление души творящая, паче же многажды износим суетная и праздная словеса, и никоея же пользы, но вредъ души соделовающая, и не сладость умную, но паче горкость вечную и помрачение сов h стное источающая. Мужеи же мудрыхъ разумомъ, св h тлости учения просвещ h нныхъ словеса – тая суть словеса, сладости исполненная, тая скорбь неразумия исц h ляющая, тая печалныя пелыни ус-лаждающия, о киихъ благородныхъ въ премудрости мужехъ премудрости рачитель тамо же, въ глав h 24, глаголетъ: «Лучший премудъ кр h пкаго, мужь, мудрость им h яи, тяжателя велика» 9 (ср.: Прит. 24:5).
Помимо образа медовой сладости, концепция мудрого слова выстраивается через метафоры, выражающие тему обогащения, собирания богатств, через образы золота, украшающего уста премудрых: «...нищь есмь премудростнаго украшения, но усердно ублажаю обогащенныя разумомъ, позла-тившия своя уста красотою премудрых сло-весъ. Т h мже дерзаю ублажати... сладость словесъ разумныхъ, словесъ, позлащенныхъ красотою премудрости, в похвалу обога-щенныхъ премудростию мужей, во усердие же благородныхъ отроковъ, желающихъ по-златити своя уста от нилоструйных источ-никовъ» 10.
Библейские цитаты, в основном из Ветхого Завета – излюбленного источника аргументации южно-русских, московских [Попов, 1886. С. 72; Понырко, 1994. С. 106– 107], а также выговских барочных проповедников, вводятся в текст весьма обильно. Автор демонстрирует здесь свое мастерство, обыгрывая примеры из Книги Есфири, из 2-й Книги Ездры, в которых содержатся свидетельства силы мудрого слова.
Метафоры меда и пчел применительно к теме любомудрия встречаются и в других текстах Андрея Денисова. Свое послание из Москвы к выговцам он начинает следующим обращением: « П онеже любопотща-тельни есте, яко пчелы, по различнымъ цв h тникомъ пов h стей обл h таете, от мно-год h йственных цв h товъ пресладкии мудро-любия плод обсысаете, откуду желательно и нам, л h нивымъ, пов h ствовати вамъ, что новонародное и удивляемо услышимъ, на-д h ющеся и отсюду возмощи вамъ татство-вати душепитательный медъ...» 11. Здесь уже появляются образы выговских пустынножителей как пчел, жаждущих собирать мед мудрости.
Те же образы варьируются в послании Андрея Денисова «О любомудрии» [Дружинин, 1912. С. 110, № 80]: «Якоже пчелное люботрудие, естествоводимо, изяществует в медособирании, всюду обтичюще, на всякъ садъ и цвhтъ устремляются, крины селныя съсутъ, травы лугов облизуютъ, татебству-ютъ всяко насhяние, капли медовныя от всhх крадуще, собрание пресладко и дивно меда собираютъ, и не своему точию чреву и гортани плодоносяще, но преизобильно со-бирающе, яко домом и купилищемъ доволь-ствовати от сладости собрания ихъ, – сице любомудрия свhтлhйшии рачители, от вhковъ возрастшия, любомудрецев любомудрия винограды тако лобызаютъ, яко всяко премудрости возрастшее и растущее древо, еже постигнутъ, цhлуют, на всякъ доброразумия сад, яже узрят, устремляются, от всякаго, яже обрящут, доброумия источника черплюще, возгромаждаютъ сокровище премудрости. И тако обогащшеся, обогащают другия, обогащающе же иныя, многогубнhйше преобогащаются; усугубляя таланты, излище преполны благодатнаго дара бывают» 12.
В этом фрагменте при помощи развернутой метафоры «пчелы-собиратели мудрости» автор рисует целостную картину, где воедино собраны и мотивы мудрости-медовой сладости, и собирания богатства премудрости по разным цветам-книгам, и тема сада, традиционно ассоциирующегося с темой рая. Овладение книжной мудростью уподобляется здесь, кроме того, солнечному свету и сравнивается с природным солнцем, освещающим вселенную: «оно во дни токмо, наипаче же в весну и лето, си еже и в нощех, и в есень, и зиму равно осветлеваю-ще рачители своя». Здесь соединились две архетипические метафоры, хорошо известные христианской традиции. Солнце в христианстве – символ Бога, а мед и пчелы также восходят к солярной символике [Хан-зен-Лёве, 2003. С. 553]. Таким образом, в семантике мудрого слова переплетаются темы писательского дара и Божественного источника.
В Слове «Всяк подвизаяися от всего воздержится» [Дружинин, 1912. С. 119, № 129] автор предлагает в качестве угощения пустынножителям свое послание, основанное на мудрых словах апостола Павла: «пред-ставимъ чертожницамъ небеснымъ в плачев-нhй дебри гостителну трапезу, аще и нелh-потно от насъ расчиняему, но благодатную сладость от Павлова пчелника (курсив здесь и далее мой. – О. Ж.) подаваетъ неизнуряе- му» 13. Послания апостола метафорически обозначаются как «Павлов пчельник», улей. Старообрядческий писатель, жители киновии и апостол оказываются связанными единой символикой. Этот же символ – пчелиного улья – используется писателем в процессе мифологизации образа Выговского общежительства.
В новейшем обобщающем исследовании утопий Б. Ф. Егоров назвал Выг «наиболее крупной и долговечной практической реализацией старообрядческой утопии» [2007. С. 32]. Действительно, после избрания кинови-архом Андрея Денисова (1703 г.) Выговское общежительство стало стремительно превращаться в крупнейший центр сохранения древних традиций и на протяжении почти полутора столетий оставалось своеобразным «государством в государстве». «Основатели Выга осуществили беспрецедентный для России опыт построения почти утопического бытия отдельно взятой религиозной общины. Они на протяжении полутора столетий превращали в процветающее и многолюдное общежительство некогда убогие и скудные лесные чащобы Севера» [Маркелов, 2008. С. 491]. Обустройство Выговской пустыни, хозяйственная, экономическая жизнь, быт и культурное строительство изучены в настоящее время достаточно основательно [Crummey, 1970. P. 101–134; Клиба-нов, 1977. С. 174–192; Юхименко, 2002]. Совершенно очевидно, что расцвет Выгов-ской пустыни в первые десятилетия XVIII в. стал возможен не только благодаря организаторским способностям его основателей, и прежде всего Андрея Денисова, но и вследствие того значения, которое он и его сподвижники придавали слову. Литературная реализация выговской утопии, ее содержательное наполнение, топика, с помощью которой выстраивался утопический сюжет, представляют собой одно из неизученных и чрезвычайно интересных направлений исследования.
Безусловное послушание руководству, равноправие рядовых пустынножителей, аскетизм, отсутствие личного имущества и связей с родственниками, запрет на любое общение с внешним миром означали построение жизни в Выговском центре в соответствии с аскетически-монастырским идеа- лом. Но в этот идеал входило как важнейший элемент и эстетическая составляющая, в частности, почитание словесного искусства – идеал «любомудрия». Слушание поучений и проповедей, написанных предводителями Выга, вменялось здесь в обязанность.
В своих словах и поучениях Андрей Денисов создает идеализированный образ Вы-говской пустыни как острова спасения. Для этого оказывается задействован целый комплекс традиционных мифологем и архетипических образов. В частности, чрезвычайно популярным становится апокалиптический символ Жены, облеченной в солнце (Откр 12: 1-17). Практически все символы, составляющие сюжет 12-й главы Откровения, нашли отражение в системе мотивов, при помощи которых Андрей Денисов создает утопический образ Выга. Библейский символ Жены, убегающей от дракона и обретающей покой в пустыне, отождествляется с истинной Верой и соответственно Церковью, которая есть не «не стены и покровъ, но в h ра и житие» 14.
Опираясь на барочную герменевтику, Андрей Денисов прославляет все добродетели, которыми должен отличаться насельник Выга. Персонифицированные образы Девства, Смирения, Чистоты, самой Выгов-ской церкви и Веры заселяют это идеализированное пространство.
Аще высокоустроенныи дом красновидно усмехается, но основания крhпостию весь утвержается, тако церковь, аще многими светоблистаетъ добродhтельми, но единою вhры православныя красотою светлhется;
многа строения духовная, но едино основание, вhра православно кафолическая 15.
Пышные декоративные средства барочной стилистики помогают автору создать церемониальную атмосферу особого утопического времени-места как предметафоры
Небесного Царства, само пребывание в котором спасительно. Образ выговской утопии дополняется при помощи символики улья, где любовь к премудрости и трудолюбие иноков-пчел сливаются воедино.
Составляя Риторику-свод в конце 1720-х гг., Андрей Денисов включает в качестве парадигмы отредактированный им текст одного из источников – пример, взятый из Риторики Софрония Лихуда. В парадигме использован прием олицетворения, пчелы изображены как одушевленные существа:
«Видиши ли лапателницы, хищницы и питателницы, чрез цв h товныя сокровища, чрез безсмертная богатства садов, чрез шипковая стяжания вертоградов несытным хищением, яко н h кии чин, устроенный купно, л h тающе, устремляющеся к шипком, сокровищствуют в сад h х, плодоносят в гумнах, простираются на р h ках, пиют без сомн h ния, хапают мед и купно корысти приносят» 16.
Далее Андрей Денисов (на поле в рукописи указано его авторство), вдохновленный этой метафорой, предлагает обширный экфрасис, где уже иноки уподобляются пчелам:
«Видиши ли, како сии церковнии пчелы, премудрии татебницы и добродетелей хи-щателницы, чрез послушная хождения, чрез священныя тяжести трудов, чрез безсмерт-ная сhяния, пролития потов, несытным спасения хапанием, яко нhкии чин устроенный, ревностию, яко крилаты, чрез блата лhтающе, устремляются к нивам //, сокро-вищствуют в ношении тяжъких древ, в зъгромажении их плодоносят, в терпhнии досад древохапалных богатствуют, друг пред другом хапают благодатный мед, пиют пресладкое безстрастие, и купно вhчныя корысти приносят» 17.
Во множестве деталей узнается реальная жизнь Выговского монастыря, пропущенная сквозь идеализирующую призму метафорического дискурса. «...И овии из них путешествие правящее, овии же благочиние над-смотряюще, и овыя трапезныя и поварныя сосуды носящее, овии же церковную пользу книги имущее, чащи лесныя обьюхающе, высоковерхиими древами и холмами земными наслаждающеся. Обшедше един от холмов, на нивное устроение окружат, на всякое в нем древо, аще ср h тят, кроме закона устремляются, их посекающе в послушания ползу души сокровищствующи, со вся-каго древа богатство себ h небесное ухищряюще, от сосния мед духовный крадут, от елия // красоту души плодоносят, в березах райския цветы татствуют, высоко-верхия осины сламляют и всякая древца к земли скланяют, от коегождо плоды души татебствуют» 18.
В образе «монастырь-улей» исчерпывающе представлена вся жизнь монастыря, – и тяжкий физический труд, и необходимость временно покидать стены обители, отправляясь на заработки, и смирение страстей, и освоение окружающего пространства. Реалии северной природы – сосны, ели, березы, сопровождаются деталями «райского» топоса («в березах райския цветы татст-вуют»). Важная деталь в характеристике иноков-пчел – мудрость, «церковные книги». Порядок, четкое распределение обязанностей, непрестанная трудовая деятельность, подчеркнутые в этой утопической картине, действительно напоминают роевую жизнь пчел. Так рисовал свой утопический идеал один из создателей крупнейшего старообрядческого центра.
Высота, на которую было поднято вы-говскими книжниками искусство слова, позволяет рассматривать литературную жизнь Выга как важную эпоху в истории не только русской, но и мировой словесности. Обращаясь к древнейшим символам и переосмысливая их, старообрядческий писатель включался в большой культурный диалог, свидетельствуя о важности и «медовой»
сладости искусного слова, которое, как свидетельствует апостол, изначально было от Бога.
Symbolics of honey and bee in creativity of Andrey Denisov