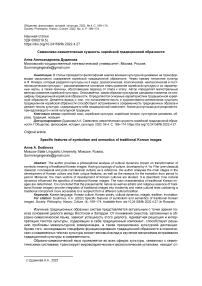Символико-семантическая сущность корейской традиционной образности
Автор: Дудинова Анна Александровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится философский анализ влияния культурной динамики на трансформации смыслового содержания корейской традиционной образности. Через призму типологии культур А.Я. Флиера, который разделял культуры на 4 вида: доклассическая, классическая, неклассическая и пост-неклассическая культуры - рассматриваются основные этапы развития корейской культуры и их характерные черты, а также причины, обусловившие переход от этапа к этапу. Автор определяет магистральные векторы развития корейской культуры. Описывается, каким образом культурная динамика повлияла на специфику традиционной корейской образности. Определяются основные характеристики традиционной корейской образности. Делается вывод о том, что полисемантичность и художественно-религиозная сущность традиционной корейской образности способствуют встраиванию в современность традиционных образов и делают тексты культуры, содержащие в себе традиционный компонент, более доступными для реципиента, принадлежащего к иной культурной традиции.
Корейский язык, корейская культура, корейская поэзия, культурная динамика, образы, традиция, новация
Короткий адрес: https://sciup.org/149140198
IDR: 149140198 | УДК: 008(519.5)
Текст научной статьи Символико-семантическая сущность корейской традиционной образности
Изучение традиционных образных систем представляется актуальным с точки зрения поиска оснований диалога между Востоком и Западом. От понимания смыслов, заложенных в образно-символическом языке, зависит успешность этого диалога. Адекватная рецепция и интерпретация текстов культуры, содержащих в себе традиционный компонент, способствует решению проблемы межкультурной коммуникации, а также преодолению культурной дистанции. Кроме того, исследование специфики функционирования традиционной образности в классических и современных текстах культуры вносит весомый вклад в изучение механизмов встраивания традиционной культуры в современность.
Образно-символический язык проявляется во всех сферах культуры, связанных с семиотическими системами, транслирует мировоззренческие и аксеологические установки, находит от-
ражение в языковой картине мира носителей культурной традиции и является неотъемлемой частью «культурного кода» как многоуровневой развивающейся системы, позволяющей интерпретировать заложенные в текстах культуры смыслы. У. Эко отмечает, что именно коды, лежащие в основе человеческой коммуникации, межкультурной коммуникации, позволяют осуществлять процессы означения и интерпретации (Eco, 1976).
Символический образ обладает способностью хранить в зашифрованном виде не только отдельные смыслы, но и целые тексты, выступая в качестве механизма памяти культуры и обеспечивая ее целостность. Изучение символического образа, его структуры позволяет проследить развитие культуры в диахронии, поскольку символ не принадлежит изолированному, синхронному срезу культуры, но выступает в качестве средства интеграции разных срезов, пронизывая всю ее историческую вертикаль (Лотман, 1992: 191–200).
Многообразие плана содержания символического образа обусловлено спецификой динамического развития культурной традиции, в рамках которой развивалась образная система. М.Ю. Лотман, в частности, подчеркивает, что «культура как сложное целое составляется из пластов разной скорости развития… Взрывы в одних пластах могут сочетаться с постепенным развитием в других. Это, однако, не исключает взаимодействия этих пластов» (Лотман, 2000: 21).
Чтобы проследить трансформации образной системы традиционного типа с течением времени и определить символико-семиотическую сущность корейской традиционной образности, мы разработали динамическую модель развития корейской культуры, обратившись к типологии культуры А.Я. Флиера. Рассматривая культуру с одной стороны как мировоззренческую систему, упорядочивающую коллективную жизнь людей и их социальное поведение, а с другой – как образносимволическую систему, являющуюся продуктом символической деятельности людей и выступающую в роли регулятора их социального поведения (Флиер, 2014), А.Я. Флиер предлагает разделить исторические культуры на типы по таким основаниям, как особенности отношения к истине, оппозиции добра и зла, предпочитаемые модели социального устроения, методы обобщения и упорядочения представлений о мире и т. д. (Флиер, 2017: 32). Таким образом, согласно А.Я. Флиеру, можно выделить четыре основных типа культуры: доклассическую (народная традиционная культура, для которой характерно мифоритуальное мировоззрение), классическую (к характерным чертам можно отнести идеологичность, обусловленность религиозной или политической идеологией), неклассику и постнеклассику (наука и философия выступают в качестве мировоззренческого основания, однако, в отличие от неклассической культуры, которая провозглашает контекстуальную зависимость любой истины, постнеклассическая не признает истину как научную категорию вообще).
В истории развития корейской культуры на основании изменений ее мировоззренческих оснований можно выделить четыре этапа:
-
1. Доклассический этап (примерно до IV в. н. э.) представляет собой синтез различных раннерелигиозных представлений корейцев в рамках народной культуры (анимизм, шаманизм, тотемизм, демонизм и т. д.), который нашел отражение в мифопоэтической модели мира, а также в ритуале, направленном на то, чтобы через поэтическое слово поддерживать гармонию космоса и благоденствие людей (Никитина, 1982: 51). Специфику комплекса традиционных корейских верований также определило пограничное положение Кореи и ее роль медиатора, обеспечивающего культурный обмен между островными культурами Тихого океана и континентальной Восточной Азией (Концевич, 2019: 178). К основным чертам доклассического этапа также можно отнести такие характеристики как синкретичность, богатая традиционная обрядность и ритуальность, прецедентность социального поведения.
-
2. Выделение второго, классического этапа (примерные рамки: IV в. – конец XIХ в.) связано не столько с изменением, сколько с расширением мировоззренческих оснований корейской культуры. Кроме того, данный этап можно разделить на два периода, первый из которых характеризуется, прежде всего, нарастающим влиянием буддизма, который выступил в качестве консолидирующей силы и даже получил статус государственной религии. К характерным особенностям данного этапа можно отнести синкретизм традиционных анимистических верований и буддизма, формирование элитарной культуры, укрепление централизованной власти и формирование государственности. Основанием для выделения второго периода в рамках классического этапа корейской культуры мы считаем появление запроса на новую государственную идеологию в связи со сменой правящей династии в конце XIV в. и адаптацию к этим целям неоконфуцианского учения. Таким образом, распространение неоконфуцианства, как и распространение буддизма, проходило в рамках, в первую очередь, элитарной культуры. Неоконфуцианское учение при этом также было призвано выполнять консолидирующую функцию. Под влиянием неоконфуцианства как морально-этического учения сформировалась национальная идеология и национальная культура, развивается тенденция к секуляризации сознания.
-
3. О завершении предыдущего этапа и переходе к неклассическому этапу (примерно конец XIX в. – начало XX в.) в истории корейской культуры можно говорить в связи с нарастающим вниманием к Корейскому полуострову как к центру геополитических интересов со стороны западных государств, а также соседних Китая и Японии. На этом этапе Корея приобщается к мировому философскому и культурному наследию посредством японской медиации в годы японского колониального правления (1910–1945 гг.), формируется массовая национальная культура, роль элиты берет на себя интеллигенция, усиливается секуляризация сознания. Наблюдается расцвет идеологии (с одной стороны – гуманистические идеалы христианского мира, с другой – идеи социализма) на фоне разделения страны на два государства с разным политическим устройством.
-
4. Дату окончания Корейской войны (1953 г.), когда граница двух новых корейских государств – КНДР и РК окончательно закрепилась в районе 38-й параллели, можно условно принять за рубеж перехода южнокорейской культуры к постнеклассическому типу (середина ХХ в. до наших дней). На постнеклассическом этапе Республика Корея не только вступает в мировое культурное пространство, но и активно включается в глобализированные социально-политические процессы, а также начинает оказывать ответное влияние на мировые культурные процессы в рамках массовой культуры, активно транслируя свои ценностно-мировоззренческие установки1.
Разумеется, временные рамки, приведенные для отдельных этапов данной динамической модели, даны для удобства и их следует воспринимать условно, поскольку сложный комплекс культурно-социальных процессов нельзя однозначно разграничить в исторической перспективе.
Как мы видим, мировоззренческие основания корейской культуры представляют собой результат напластования ее разновременных слоев, а в динамике корейской культуры можно отчетливо проследить два основных вектора:
-
1) движение от сакрального к профанному (от анимистических верований и мифопоэтической системы представлений о мире – через религиозно-философские учения – к идеологии);
-
2) от культурных заимствований, органично вплетаемых в картину мира, – к культурной экспансии или усилению обратного влияния на мировую культуру.
При этом важно отметить, что распространение дальневосточных религиозных верований, а также философских и этических учений, составивших основу мировоззренческих оснований корейской культуры, проходило в основном мирным путем – через встраивание новых форм в уже существующие, через поиск общих оснований.
Анализируя основные этапы развития корейской культуры, можно проследить процесс трансформации традиционной образной системы в Корее. Богатая образная система, сформировавшаяся на основе комплекса раннерелигиозных представлений корейцев под влиянием китайской культуры (в том числе, конфуцианства и даосизма), была заимствована буддийскими миссионерами, которые, адаптируя тексты местных преданий, легенд и шаманских песен, использовали их, чтобы транслировать основы буддийской онтологии и философии в народные массы. Затем синкретичная буддийско-анимистическая образность подверглась влиянию неоконфуцианской идеологии (Дудинова, 2020: 240). В конце XIX в. при определении вектора дальнейшего развития культуры в Корее в качестве ориентира были выбраны идеалы западного мира и «опыт Японии в их усвоении» (Солдатова, 2004: 26). На изменение культурной парадигмы большое влияние оказали не только идеи христианского гуманизма, но и социалистические идеалы. Традиционная образность, адаптируясь к запросу современности, также претерпела значительные изменения, особенно в сфере художественного творчества, что проявилось в отказе от строгого канона и усилении роли автора-творца, что не могло не способствовать проявлению авторской семантичности. Адаптационный потенциал традиционной образности позволил ей не только встроиться в современный контекст, но и выступить в качестве инструмента трансляции ценностно-смыслового содержания южнокорейской культуры в современном глобализированном культурном пространстве. В рамках же северокорейской культуры традиционная образность также успешно трансформировалась под влиянием идеологии и адаптировалась под ее нужды (Похолкова, 2014).
Как мы видим, кумулятивность традиционной корейской культуры оказала непосредственное влияние на структурную специфику традиционной корейской образности. Напластование значений, пришедших из разных религиозных, философских и морально-этических учений, обусловило синтетический характер традиционной корейской образности, а также ее структуру, которая не предполагает наличия центрального значения – все значения в структуре корейского традиционного образа являются равноценными и воспринимаются симультанно носителями культурной традиции, что значительно затрудняет интерпретацию текстов культуры с традиционным компонентом для реципиентов, принадлежащих к принципиально иной культурной традиции. Из этого следует, что при изучении традиционной корейской образности необходимо, с одной стороны, диахронически подходить к вопросу смыслообразования, то есть, рассматривать структуру такой образности в тесной связи с культурной динамикой, с другой стороны, симуль-танно - к восприятию смыслов, когда речь идет об анализе конкретных произведений.
Кроме того, полисемантичность корейской традиционной образности обусловила и ее дуальную религиозно-художественную сущность (традиционность, постоянность, бессознательную природу - с одной стороны, а с другой - эстетическую ценность и способность отражать творческие интенции автора-творца), позволяя выступать как в качестве сакральной символики, так и в качестве средства художественной выразительности в различных светских произведениях культуры.
Рассмотрим распространенный образ «гора». Согласно традиционным представлениям корейцев, гора - это сакральное пограничное пространство между небесным и земным миром, отделяющее мирскую суету от вечности. Кроме того, гора может рассматриваться в качестве вертикали, организующей мир, и выступать в роли связующего звена между пространственным «верхом» и «низом» (Никитина, 1994: 113).
Архетипичность этого образа коррелирует и с буддийским представлением о горе как о центре вселенной, мировой оси (гора Меру), вокруг которой надстраиваются миры. Кроме того, образ горы неразрывно связан с монашеством и отшельничеством. Любопытно отметить, что уход в горы может ассоциироваться не только с буддийской традицией и рассматриваться, соответственно, как религиозный опыт, духовная практика, но и с конфуцианскими этическими принципами. В этом случае уход в горы можно интерпретировать уже как форму социального протеста и отражение идеологических установок конфуцианца (например, несогласие с проводимой в государстве политикой или даже проявление безоговорочной верности своему государю и отказ служить другому господину).
Все эти смыслы накладываются друг на друга, то или иное значение ярче проступает в определенном контексте (как отмечает Л. Витгенштейн: «Чтобы опознать символ по его знаку, мы должны обращать внимание на его осмысленное употребление» (Витгенштейн, 2018: 30)), но зачастую все они воспринимаются симультанно, в совокупности, поскольку между ними отсутствуют внутренние противоречия. С.О. Курбанов и С.В. Волков в своих исследованиях подчеркивают, что буддизм и конфуцианство нельзя воспринимать как «конкурирующие» учения в рамках корейской культуры, поскольку буддизм как религия в первую очередь отвечал за духовную сферу жизни людей, в центре внимания находится человек и его духовный опыт, в то время как конфуцианство в качестве идеологического учения основной целью имеет регламентирование жизни общества в целом, обеспечение морально-этической основы социального взаимодействия людей (Курбанов, 2009: 190; Волков, 1985: 84).
Вместе с тем, как мы уже упоминали выше, на неклассическом (и постнеклассическом для южнокорейской культуры) этапе, под влиянием западной философии и художественной парадигмы традиционная образность, обладающая основными характеристиками как художественной, так и религиозной образности, стала инструментом проявления авторской семантичности. Вытеснение религии из общественного пространства и, как следствие, секуляризация сознания открыли возможности для свободного мифотворчества, отдельные авторы и целые социальные группы получили возможность активно включиться в работу по конструированию новых культурных смыслов (Рязанова, 2015: 207).
Так, образ «горы» можно рассматривать как часть авторского симболария южнокорейского поэта Ко Ына [ ле ]. Вместе с образом «снег» [ е ] «гора» становится средством выражения индивидуально-авторских значений, неразрывно связанных с личными переживаниями поэта и его размышлениями на тему смерти, где «гора» интерпретируется как рубеж, порог смерти в контексте «западного» отношения к смерти и ее восприятия (например, в таких произведениях как «Глядя смерти в лицо» [« ^ее ^Ч »], «Заснеженный путь» [« е^ »], «Придя в деревню Муни» [« е^ □К^ ?И »] и т. д.). Традиционный образ наделяется авторским содержанием и эмоциональной окраской, но при этом сохраняет свое «классическое» смысловое наполнение.
Хотя при анализе отдельных текстов культуры уместно говорить отдельно о буддийской, конфуцианской, даосской и т. д. образности, в целом попытка систематизировать или однозначно атрибутировать полисемантичную традиционную образность по признаку принадлежности к тому или иному религиозному или философскому учению представляется не совсем целесообразной. Традиционный образ представляет собой единый конструкт, пластичность и вариативность которого позволяют ему легко наращивать дополнительные смыслы и адаптироваться под влиянием изменяющейся парадигмы, встраиваться в новый контекст. Сущность этого конструкта определяется не тем, из каких отдельных элементов, находящихся в онтологическом равенстве, состоит его структура, а тем, каким образом и в какие отношения вступают эти элементы, что является результатом их взаимодействия. Попытка деконструкции уничтожит эти связи, строящиеся на принципе множественности, а, следовательно, и саму систему (Делез, 2010: 12–16). Именно поэтому, несмотря на то что традиционные образные системы в культурах Дальнего Востока формировались под влиянием одних и тех же религиозных и морально-этических учений, все они обладают своей уникальной спецификой, обусловленной, в том числе, ценностно-смысловым содержанием каждой культуры.
Таким образом, полисемантичность традиционной корейской образности, а также ее художественно-религиозная сущность, обусловленные спецификой культурной динамики, не только обеспечивают традиционным образам ресурс встраивания в современность и возможность постоянно актуализировать наборы смысловых значений, но и делают тексты культуры, содержащие в себе традиционный компонент, более доступными для реципиента, принадлежащего к иной культурной традиции.
Список литературы Символико-семантическая сущность корейской традиционной образности
- Витгенштейн, Л. Логико-философский трактат. М., 2018. 160 с.
- Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство). М., 1985. 152 с. Делез Ж. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург; М., 2010. 895 с.
- Дудинова А.А. О двойственной природе корейской традиционной образности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2020. № 8 (838). С. 236-244.
- Концевич Л. Р. Корейская мифология // Там, где цветет мугунхва и распускается сакура. Слово об ученом. Казань, 2019. С. 178-200.
- Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб., 2009. 680 с.
- Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Таллин, 1992. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. 479 с. Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 12-148.
- Никитина М.И. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом. М., 1982. 326 с.
- Никитина М.И. Корейская поэзия XVI-XIX вв. в жанре сиджо: (Семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время). СПб., 1994. 312 с.
- Похолкова Е.А. Анализ северокорейских молодежных патриотических песен: традиции и современность // Доклады XVIII науч. конф-и корееведов. М., 2014. С. 110-118.
- Рязанова С.В. Религиозные образы и идеи и их превращения в русской литературе // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. 2015. Т. 2. № 4. С. 202-211.
- Солдатова М.В. Становление национальной прозы в Корее в первой четверти ХХ века. Владивосток, 2004. 188 с.
- Флиер А.Я. Развитие социально-регулятивных функций культуры // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2014. № 3. C. 3.
- Флиер А.Я. Классическая, неклассическая и постнеклассическая культуры: опыт новой типологии // Горизонты гуманитарного знания. 2017. № 3. С. 25-33. https://doi.org/10.17805/ggz.2017.3.3. Eco U. A Theory of semiotics. Bloomington, 1976. 354 p.