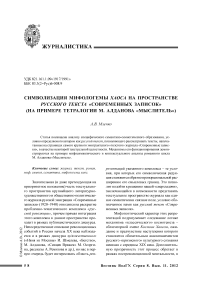Символизация мифологемы хаоса на пространстве русского текста «Современных записок» (на примере тетралогии М. Алданова «Мыслитель»)
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу специфического семантико-семиотического образования, условно определяемого автором как русский текст, позволяющего рассматривать тексты, напечатанные на страницах самого крупного эмигрантского «толстого» журнала «Современные записки», в качестве некоторой текстуальной целостности. Механизмы его функционирования демонстрируются на примере мифосимволического и контекстуального анализа романного цикла Алданова «Мыслитель».
Журнал, текст, роман, миф, символ, семантика, мифологема, хаос
Короткий адрес: https://sciup.org/14975244
IDR: 14975244 | УДК: 821.161.1.09«1917/1991»
Текст научной статьи Символизация мифологемы хаоса на пространстве русского текста «Современных записок» (на примере тетралогии М. Алданова «Мыслитель»)
Значительная (и даже претендующая на приоритетное положение) часть текстуального пространства крупнейшего литературнохудожественного и общественно-политического журнала русской эмиграции «Современные записки» (1920–1940) отводится на раскрытие проблемно-тематического комплекса «русской революции», причем прямая интеграция этого комплекса в данное пространство проходит в рамках публицистического дискурса. Непосредственное описание революционных событий в России начала ХХ века наблюдается и в рамках дискурса художественного («Няня из Москвы» И. Шмелева, «Бегство», М. Алданова, «Сивцев Вражек» М. Осоргина, рассказы А. Ремизова и др.), но нас в первую очередь будет интересовать область реп- резентаций указанного комплекса – те условия, при которых его символическая редукция становится обратно пропорциональной расширению его смысловых границ. Это позволит подойти к решению нашей «сверхзадачи», заключающейся в возможности представить текстуальное пространство журнала как единое семантически связное поле, условно обозначенное нами как русский текст «Современных записок».
Мифопоэтический характер этих репрезентаций подразумевает следование логике механизма «классического» космогенеза – облигаторной смене Космоса Хаосом, ожидание и предчувствие наступления которого становится обязательным аккомпанементом русского «кризисного» культурного сознания начиная с середины XIX века. Дополнительную прозрачность этот процесс обретает в рамках постреволюционной ментальности, в частности эмигрантской, получая неизбежное отражение в «прецедентных» текстах русского зарубежья. Важно понять, что мы не ставим цель однозначно и окончательно определить отношение «Современных записок» к русской революции – в условиях принципиальной политекстуальности журнального пространства это сделать невозможно. Но возможно – с учетом общей антибольшевистской политики издания – найти то общее, что объединяет большую часть журнальных текстов, что позволяет отвести каждому из них определенное место в кажущейся бессмысленной и хаотичной картине. Беспорядочность эта остается явной лишь до тех пор, пока не найдены принципы структуризации семантически маркированных элементов невыявленного целого, не обнаружены закономерности построения и смыслового наполнения общей модели, обеспечивающей этому целому семиотический гомеостазис.
Если в художественных текстах «Современных записок», тематически ориентированных на описание дореволюционной жизни, как мы убедились, воспроизводилась модель русского Космоса , то в текстах, рисующих (по-ст)революционную российскую действительность, конституируется модель, обеспечивающая качественную репрезентативность мифологемы Хаоса . При этом важно уяснить, что амплитуда данных репрезентаций настолько широка, что, как увидим, позволяет включать в свое семантическое поле и те тексты, тематический рисунок которых не напрямую соотнесен с русскими революционными событиями. В особых условиях контекстуального прочтения журнальных текстов, в условиях их инкорпорации в семантическое поле русского текста «Современных записок», их следования логике «эмигрантского мифа» становится возможным отнесение к «революционному дискурсу» произведений, казалось бы, лишь имплицитно раскрывающих соответствующую тематику, но в то же время в полной мере отражающих особенности кризисного сознания.
«Революционная» тематика оказывается тем самым ýже общей эсхатологической и апокалиптической интенциональности целого ряда «кризисных» текстов «Современных записок», в каждом из которых мифологема Хаоса получает свое сигнификативное комплектование. И если тема русской революции представляет собой лишь сегмент тематической палитры художественного дискурса журнала, то ее проблематика – и этот процесс становится еще более интенсивным благодаря контекстуальному приращению соответствующих значений – распространяется на максимально широкий спектр текстов. В результате мы получаем уникальную возможность (ре)конструкции картины мифологизации русской революции в рамках эмигрантской культуры и ее интеграции в общий кряж мифопоэтических представлений о смене Космоса Хаосом. Ярким примером возникающих на этом стыке исторического и мифологического «синтетических» образований выступают историософские экзерсисы М. Алданова, привносящие на пространство русского текста новые и крайне важные смыслы.
Творческая судьба М.А. Алданова (М.А. Ландау), как никакого другого, пожалуй, сотрудника, была очень тесно связана с «Современными записками». Опубликованный на страницах этого издания небольшой роман «Святая Елена, маленький остров» (СЗ. 1921. № 3–4) не только стал дебютным для Алданова как беллетриста 1, но и принес писателю известность как талантливому историческому романисту. В дальнейшем здесь увидели свет все крупнейшие художественные произведения Алданова, написанные до его отъезда в Америку: романы «Девятое Термидора» (1921–1922. № 7–9, 11, 13), «Чертов мост» (1924–1925. № 21, 23, 25), «Заговор» (1926– 1927. № 28–32), «Ключ» (1928–1929. № 35, 36, 38–40), «Бегство» (1930–1931, № 43–46), «Пещера» (1932–1935. № 50, 51, 54–57) и «Начало конца» (1936–1940. № 62, 63, 65, 66, 68–70), а также ряд рассказов, статей, рецензий и исторических очерков. О близости Алданова к «Современным запискам» говорит и тот факт, что именно он был инициатором возобновления выхода журнала после его закрытия в 1940 году, но уже в Америке и под другим названием – «Новый журнал». Кроме того, его близость к «Современным запискам», по мнению авторитетного исследователя, «была предопределена в первую очередь совпадением общего его писательского своеобразия с той линией, на которую ориентировались «Современные записки». <...> Свобода от политичес- кой ангажированности при общей ориентации на либеральную систему ценностей, прекрасное знание исторического материала, соединение остросюжетности (делавшей романы Алданова широко читаемыми, в том числе и в переводах на иностранные языки) с отличным пониманием сути исторических и социальных событий и закономерностей, стоявших в центре повествования, делали его творчество особенно близким журналу» [2, с. 447].
На наш взгляд, не только и не столько перечисленные Н. Богомоловым черты алда-новской поэтики делали прозу писателя органичной не просто манифестациям редакции, а именно русскому тексту «Современных записок», да и «свободу от политической ангажированности» и «ориентацию на либеральную систему ценностей» трудно найти, скажем, в произведениях тех же И. Бунина, И. Шмелева и Д. Мережковского, широко представленных на страницах журнала. Интеграция романов Алданова в русский текст издания главным образом происходит в парадигме такого специфического понятия, как «ужас истории» , адекватная интерпретация которого – в свою очередь – невозможна без учета своеобразия философии истории М. Алданова, на чем мы и остановимся чуть подробнее.
Квинтэссенцию историософии Алданова, подходящего к писательскому делу с научной точки зрения 2, содержит его программная книга, написанная им за несколько лет до смерти – это «Ульмская ночь. Философия случая» (1953). Эту книгу можно назвать историко-философским трактатом, в котором содержится квинтэссенция мировоззрения писателя и прежде всего обоснование его философии истории, вне контекста которой совершенно невозможно рассмотрение алдановской беллетристики на страницах «Современных записок». Но формирование и становление исторической концепции Алданова проходило задолго до «Ульмской ночи» именно на страницах его художественных произведений. Алданову был присущ далекий от оптимизма взгляд на историю, согласно которому исторический процесс представляет собой, выражаясь образно, гигантскую пьесу с одним и тем же не очень добрым сюжетом, но с постоянно сменяющими друг друга «персонажами». Говоря об алдановской эрудиции и нео- быкновенной исследовательской тщательности, отечественный литературовед А. Чернышев так характеризует историческое мышление автора: «И вместе с тем писатель меньше всего был коллекционером раритетов, ослепленным блеском открывшегося ему в читальных залах исторического материала. В его книгах своеобразная философия истории. В человеческой природе на протяжении столетий, по его убеждению, нечего не меняется. Пусть в наши дни летают на самолетах, а не ездят в ландо, пусть вместо лука и стрел придумали бомбы и ракеты – люди остались прежними, так же борются, любят, страдают, умирают, в людях больше хорошего, чем плохого. Алданов писал о разных эпохах, от середины XVI века до середины XX. Но чем менее схожи обстановка действия, костюмы, внешность персонажей, тем больше бросается в глаза общность человеческих характеров и судеб» [10, с. 12].
«Ульмская ночь» написана в форме диалога между двумя интеллектуалами, чьи имена обозначены литерами А. и Л. Это начальные буквы настоящей фамилии писателя и его псевдонима, то есть в произведении Алданов как бы спорит сам с собой. Книга состоит из шести частей: «Диалог об аксиомах»; «Диалог о случае и теории вероятностей»; «Диалог о случае в истории»; «Диалог о «Красоте – Добре» и о «Борьбе со случаем»; «Диалог о русских идеях»; «Диалог о тресте мозгов». Название книги объясняется Алдановым в самом ее начале. Он цитирует биографа великого философа Декарта А. Байе, который рассказывает об одном эпизоде из жизни ученого. В 1619 году Декарт отправился в глухое местечко Ульм, чтобы в одиночестве «собрать мысли». И ночью 10 ноября он видит сон: Бог указывает ему дорогу, по которой надо идти. Утром Декарт записал в дневнике: «Когда я был полон восторга и открыл основы изумительной науки... И начал я понимать основы открытия изумительного». Дух декартовской философии вообще лежит в основе этой книги Алданова, и неслучайно писатель начинает и заканчивает «Ульмскую ночь» отсылками к Декарту. Так, на первых страницах книги Алданов дает нам свое понимание произошедшего с Декартом: «Если мое понимание Ульмской ночи правильно, то первый свя- занный с ним вопрос относится к основному, к тому, из чего все вытекает: к аксиомам в разных областях. Существуют ли они? Как их теперь понимают или как должно было бы понимать? Что от них осталось?». А на последней странице писатель объясняет свое видение подобных аксиом, предлагая ради спасения цивилизации создать особый «трест мозгов»: «Из чего исходил бы проблематический трест? Ответ ясен: он исходил бы из принципа “Красоты – Добра”, вел бы людей к установлению – не на вечные времена – куда уж! – к установлению общих аксиом или к их ревалоризации, в целях борьбы с мрачными явлениями царства случая. Это соответствовало бы тому, что я называю духом Ульмской ночи» (Т. 6. С. 146–147, 438) 3. То есть, по Алданову, лучшие умы человечества должны создать систему нравственных ориентиров, которая призвана предотвратить войны и исторические катаклизмы.
Важно понять, что представляет собой это алдановское «царство случая», бороться с которым так необходимо с помощью аксиом «красоты и добра». Дело в том, что в основе философии истории Алданова лежит понятие случая, то есть писатель отрицал законы истории как таковые и считал историю лишь царством слепого случая. В «Ульмской ночи» Алданов так и пишет с заглавных букв: «Его Величество Случай». Алданов неслучайно в своем творчестве ставит вопросы о сути исторического процесса. Совершенно верно эту потребность для русской эмиграции объясняет А. Чернышев: «Для русских эмигрантских читателей 20–30-х годов исторический роман был не просто возможностью забыть о горьком своем бегстве на чужбину, перенесясь мечтой в мир героического, в мир царей и великих полководцев. Судьбой им было уготовано стать свидетелями и жертвами грандиозного исторического перелома, их жизнь раскололась надвое. В историческом романе они искали ответа на собственные «проклятые» вопросы: была ли русская революция неизбежной, существуют ли закономерности исторического процесса? Алданов, как и его читатели, обращаясь к истории, думал прежде всего о революциях» [10, с. 12]. Именно русская революция заставила Алданова обратиться не только к вопросу «была ли она предопределена историей», но и к вопросу более широкому: «А существуют ли законы истории вообще?». И по большому счету все произведения писателя представляют собой развернутый ответ на эти вопросы.
И этот ответ, по Алданову, может быть только отрицательный: «С его точки зрения, причинность в историческом процессе существует, но вместо единой цепи причин и следствий следует искать бесконечное множество независимых одна от другой цепей. В каждой отдельно взятой последующее звено зависит от предыдущего, но в скрещении цепей необходимость и предопределенность отсутствует – вот почему совершенно бесполезное занятие делать исторические прогнозы: они никогда и никому не удавались» [10, с. 14–15]. Поэтому и Октябрьский переворот, полагает Алданов, есть не что иное, как цепь случайностей, которая привела к очередной исторической катастрофе: «Если бы меня спросили, какова главная социологическая особенность октябрьского переворота, то я без колебания ответил бы: она заключается в том, что он противоречит всем “законам истории”, а также всем философско-историческим учениям, в особенности же тому, которое проповедовалось его вождями» (Т. 6. С. 267). Собственно, эти весьма далекие от идей исторического детерминизма соображения и легли в основу большинства беллетристических книг Алданова. И анализировать их поэтику – и в первую очередь контекстуальную журнальную поэтику – без учета историко-философских воззрений писателя абсолютно невозможно: характерология, система мотивировок, сюжетная структура этих произведений подчиняются прежде всего алдановской философии истории 4.
Таким образом, все романы Алданова связывает взгляд на историю как бессмысленный хаос, лишенный строгих закономерностей, оправдывающих или объясняющих социальные катаклизмы, прежде всего войны и революции. Этот взгляд есть частное выражение общего чувства «ужаса истории», который, по мысли М. Элиаде, стал испытывать современный человек, оказавшийся вне традиционной мифологической ментальной парадигмы и понимающий, что ни одна из исторических концепций не в силах разрешить проблему зла Истории. «Для нас, – пишет М. Элиаде, – важен лишь один вопрос: как можно вынести «ужас истории», стоя на точке зрения историцизма? Оправдывая историческое событие тем простым фактом, что оно так произошло, нелегко будет освободить человечество от ужаса, который это событие внушает. Уточним, что речь идет не о проблеме зла, которая – под каким углом зрения ее ни рассматривай – остается проблемой философской и религиозной, речь идет о проблеме истории как таковой (курсив наш. – А. М.), о “зле”, связанном не с природой человека, а с его деятельностью. Хотелось бы, например, знать, как можно выносить и оправдывать мучения и исчезновение стольких народов, страдающих и исчезающих по одной простой причине – что они оказались на пути истории, что они являются соседями империй, переживающих процесс постоянной экспансии, и т. д. <...> А в наши дни, когда никому не дано избежать давления истории, как мог бы человек переносить катастрофы и «ужасы истории» – от департаций и массовых убийств до атомной бомбардировки, – если бы за ними невозможно было почувствовать никакого знака, никакого трансисторического замысла, если все они являются ничем иным, как слепой игрой экономических, социальных или политических сил, или, еще хуже, следствием «свобод», которыми меньшинство владеет и своекорыстно пользуется прямо на глазах у истории? <...> ...Ни одна из исторических философий не в состоянии защитить от страха перед историей» [11, с. 134–135, 141]. Констатация этого бессилия историзма и бессмысленности Истории, представляющей собой лишь «игру слепого случая», отчетливая декларация метаисторических основ «исторического» процесса, попытка инкорпорировать в него элементы мифологической картины мира (в частности, такой немаловажный элемент, как циклическая концепция «вечного возвращения»5) проходит через все романы Алданова, опубликованные на страницах «Современных записок».
Первые четыре из них Алданов впоследствии объединил в единую тетралогию под общим названием «Мыслитель», повествующую о событиях времен Великой французской революции и наполеоновских войн. Дей- ствие всех четырех произведений охватывает наиболее драматичные события европейской и русской истории с 1793 по 1821 год. В «Девятом термидора» Алданов художественно интерпретирует историю знаменитого переворота; в центре романа «Чертов мост» – смерть Екатерины II и переход Суворова через Альпы; в романе «Заговор» рассказана история убийства Павла I. Роман «Святая Елена, маленький остров», где писатель рисует последние дни ссыльного французского императора, событийно завершает, таким образом, весь цикл в целом.
«Изолированное» прочтение этих романов практически не предполагает наличия дополнительных коннотаций 6, но их включение в русский текст «Современных записок» позволяет – в этих принципиально иных герменевтических условиях – прочесть алданов-ский цикл как произведение о «революциях вообще», об их смысле, истоках 7, природе и результате. И в основание этой герменевтической процедуры кладется один из обязательных принципов конструирования мифа: обращение к прошлому для объяснения настоящего и будущего – таков один из постулатов любой социально-политической мифологии. Одним из первых на то, что миф представляет собой язык, использующий особую темпоральную систему, указал основатель структурализма К. Леви-Строс. В «Структурной антропологии» он делает очень важное замечание, словно объясняя при этом и алдановское обращение к Великой французской революции: «Миф всегда относится к событиям прошлого: “до сотворения мира”, или “в начале времен” – во всяком случае, “давным-давно”. Но значение мифа состоит в том, что эти события, имевшие место в определенный момент времени, существуют вне времени. Миф объясняет в равной мере как прошлое, так и настоящее и будущее. Чтобы понять эту многоплановость, лежащую в основе мифов, обратимся к сравнению. Ничто не напоминает так мифологию, как политическая идеология. Быть может, в нашем современном обществе последняя просто заменяет первую. Итак, что делает историк, когда он упоминает о Великой французской революции? Он ссылается на целый ряд прошедших событий, определенные послед- ствия которых, безусловно, ощущаются и нами, хотя они дошли до нас через целый ряд промежуточных необратимых событий. Но для политика и для тех, кто его слушает, французская революция соотносится с другой стороной действительности: эта последовательность прошлых событий остается схемой, сохраняющей свою жизненность и позволяющей объяснить общественное устройство современной Франции, его противоречия и предугадать пути его развития» (курсив наш. – А. М.) [5, с. 186].
Таким образом, по мысли К. Леви-Стро-са, обязательным условием функционирования мифа является отсылка к культурному или историческому прецеденту. Последнее прежде всего относится к культивированию современного социального мифа, и если традиционная мифология предполагает «вечное возвращение» к утраченным Истокам (М. Элиаде), то вхождение в Историю (К. Ясперс) делает неизбежным периодическое обращение к историческим прецедентам и целым историческим архетипам 8.
На эту связь, целостность прошлого, настоящего и будущего указывает прежде всего символика тетралогии Алданова 9, играющая, на наш взгляд, ведущую роль среди прочих элементов поэтики романов. Главный, обобщающий авторскую историософию символ хаоса Истории – это дьявол, демон, одна из химер собора Парижской Богоматери, показывающая язык тщетно копошащемуся внизу людскому муравейнику. Он сидит, подперев голову лапами, – поэтому Алданов и зовет его «Мыслителем», сделав это имя заглавием всего романного цикла. Значение этого символа для тетралогии и понимания истории Алдановым подчеркивали уже первые критики. Так, на страницах «Звена» в статье «Мыслитель (по поводу «Заговора» М.А. Алданова)» М. Кантор писал, что лишь после публикации «Заговора» «вполне раскрывается значение странной вступительной главы к «Девятому Термидора». Le diable-penseur на соборе Парижской Богоматери, устремляющий свой бездушный взор в сторону, где копошатся люди в отвратительной возне, – этот Дьявол-Мыслитель, которого «не создал бы добрый католик», есть символ жестокой, бессмысленной силы, управляющей и судьбою отдельного человека, и ходом всемирной истории» (Звено. 1927. № 5. С. 257). Об этом же говорит и Б. Каменецкий (псевдоним крупнейшего русского критика Ю. Айхенвальда) в газете «Руль»: «Символически высится на соборе Парижской Богоматери знаменитая химера Мыслителя... Это – дьявол-мыслитель. Если ОН – патрон мысли, то может ли история не быть бессмыслицей? О “дьявольском водевиле” говорил Достоевский 10. И особенно бессмыслица на протяжении истории оказывалась именно там, где люди сознательно хотели воплотить мысль, насадить разум. На почве рационализма лучше всего разрастается чертополох иррациональности 11» (Руль. 1923. 1 апр.). Как центральный символ тетралогии Мыслителя интерпретировали и авторы солидных современных монографических исследований об Алданове: «Мыслитель этот, центральный символ цикла, – diable-penseur, облокотившаяся на вершине собора Парижской Богоматери статуя мелкого беса, который смотрит высунув язык на все, что творится внизу» [6, с. 99].
Американский исследователь совершенно не случайно говорит именно о «мелком бесе» – тем самым символика «Мыслителя» абсолютно справедливо позиционируется по отношению к средневековой эпистеме с ее макабрической семантикой 12 и подчеркивается ее генетическая связь с эстетикой Серебряного века русской литературы, в частности символизма (аллюзия на роман Ф. Сологуба и – через Достоевского – на эстетику раннего романтизма более чем прозрачна 13). Но вместе с тем включение этого центрального символа тетралогии в смысловое пространство русского текста «Современных записок» активизирует совершенно определенные коды, и в качестве структурообразующей в образе начинает выступать именно семантика искушения, хотя в целом оппозиция Бог / дьявол как репрезентант более широкой оппозиции добро / зло (Космос / Хаос) на пространстве русского текста журнала представлена очень широко. (Пост)романтическая метафора беса-искусителя 14 для культуры русского зарубежья первой волны оказалась весьма органичной, видимо, понимание русской революции в конспирологическом ключе – как заговора 15 – наложило свой отпечаток и на се- мантику художественных (мифологических) образов. На текстуальном пространстве «Современных записок» сконцентрированы тексты, в которых инвариантная символическая фигура дьявола репрезентирована именно его тентатическими коррелятами – фигурой трикстера в романах В. Набокова и фигурой Антихриста в текстах Д. Мережковского. И если Набоков прибегает к этому образу для моделирования – разумеется, в герменевтических условиях функционирования структур русского текста «Современных записок» – субъектно-объектных отношений в тоталитарном обществе, а Мережковский для иллюстрации извечного противостояния двух онтологических начал в Истории, то Алданов создает образ, характерологически максимально близкий, к примеру, булгаковскому Воланду – образ Мефистофеля, с саркастической усмешкой наблюдающего за все новыми актами все той же печальной комедии.
Впервые этот образ демона встречается в финале первого по времени написания романа тетралогии (в цикле он стоит последним) «Святая Елена, маленький остров»16, и, что примечательно, здесь он инкрустирует описание именно революционных событий, воспоминания о которых всплывают в сознании умирающего Наполеона: «Он хорошо знал этот страшный средневековый собор. Помнил его запущенным, опустошенным, грязным, каким он был в революционные годы: внутри веселилась чернь, темные вековые стены осыпались, статуи наверху повреждены и разбиты. На крыше у подножья правой башни виднелась одна такая фигура – дьявол с горбатым носом, с хилыми руками, с высунутым над звериной губой языком... Зачем там был дьявол? Или он был не там?.. » (Т. II. С. 384)17. По Алданову, хитрый дьявол был не только «там». Этот образ становится в творчестве писателя всеобъемлющим символом, символом людского бессилия перед хаосом Истории, не имеющей ни цели, ни прочных оснований. Алданов неслучайно «доверяет» свои размышления о «бесах революции» именно Наполеону. Этот образ у Алданова далек как от идеализации, так и от «десакрализации» (как, например, у Л. Толстого) – перед нами уставший человек, подводящий итоги своей внешне блестящей, но внутренне противоре- чивой и сложной судьбы. Характерно, что император в конце жизни дает философскую оценку главному ее событию – революции, и понимает, что всякая революция бесцельна и бессмысленна точно так же, как и сама История: « – Да, революция – страшная вещь, – заговорил он снова. – Но она большая сила, так как велика ненависть бедняка к богачу... Революция всегда ведь делается ради бедных, а бедные-то от нее страдают больше всех других. <...> Я наблюдал революцию вблизи и потому ее ненавижу, хотя она меня родила. Порядок – величайшее благо общества. Кто не жил у нас в 1794 году, кто не видел резни, террора и голода, тот не может понять, что я сделал для Франции. Все мои победы не стоят усмирения революции... Так далеко вперед, как я в ту пору, никто никогда не заглядывал. А понимаете ли вы, что такое значит в политике заглядывать вперед? О прошлом говорят дураки, умные люди разговаривают о настоящем, о будущем толкуют сумасшедшие... Смелый человек обыкновенно пренебрегает будущим. Впоследствии я редко заглядывал вперед больше чем на три или четыре месяца. Я узнал на опыте, насколько величайшие в мире события зависят от его величества – случая...» (СЗ. 1921. № 4. С. 62).
Насколько эти и подобные мысли были близки авторской позиции самого Алданова (некоторые критики даже говорили о чрезмерной публицистичности его романов), можно судить по многочисленным рассуждениям «сквозного» для всего цикла и характерного для алдановского творчества в целом «героя-резонера»18 Пьера Ламора. Это старый философствующий бессребренник, образ которого можно расценивать как alter ego самого автора. Его имя тоже весьма символично: la mort по-французски означает «смерть», что само по себе коррелирует с семантикой слова «дьявол» и, в частности, с символом Мыслителя . Поэтому неудивительно, что именно Ламор высказывает близкие автору мысли о неизменности человеческой природы и тщетности общественных переустройств, а его рассуждения о Великой французской революции в романе «Чертов мост» с легкостью можно было бы отнести к революции русской: «Революционное правительство делает то же самое, но уж очень гнусно это у него выходит.
И так во всем: тот же старый режим, только гораздо грубее, обнаженнее, безобразнее... Я видал прежних правителей вблизи и знаю им цену. Мы жили худо, но все же не так гнусно, как живем теперь. На самом деле жизнь была, в общем, гораздо ярче до революции. Нет ничего бледнее и беднее, чем революция. Ничто так не суживает душу, ничто так не извращает разум... <...> Якобинские идеи не хуже других политических идей – они тоже могут увлечь лавочника... Нет, я ненавижу всех этих господ не мозгом – скорее, нервами кожи... Я презираю их, презираю их язык, их обращение, жизнь, которую они создали, их хваленую новую жизнь... » (СЗ. 1924. № 21. С. 96–97).
Символический образ Мыслителя как беса Истории проходит через все романы алдановского цикла. К примеру, он композиционно обрамляет и семантически насыщает роман «Девятое Термидора», в котором звучит та же мысль о бессмысленности, противоречивости и нравственной ущербности революционной деятельности 19. Мыслитель обусловливает и кольцевую композицию романа: в начале, только что созданный руками неведомого средневекового ваятеля, он показывается читателю глазами молодого киевлянина, приехавшего учиться в Париж; и в конце, когда на химеру сотни лет спустя смотрит еще один сквозной персонаж алдановско-го цикла – молодой авантюрист Юлий Шта-аль. Молодой человек, стоя на вершине собора, размышляет над разворачивающимися во Франции революционными событиями и тщетно пытается понять «иронию исторической судьбы», в частности, смысл «робеспье-ровской добродетели, ради которой лилась потоками кровь»: «Но кто же, кто же был прав, где смысл кровавой драмы? Или смысл именно в том, что совершенно нет смысла?». Шта-аль верит, что этого «глубокого и вечного» смысла «жизни, истории и революции» не может не быть: «“...нет, того не может быть, – сказал себе Штааль. – Не может быть! Я молод, я мало знаю! Далеко ли я ушел по пути великого Декарта? Я еще не понял ни жизни, ни истории, ни революции. Смысл должен быть, смысл глубокий и вечный. Мудрость столетий откроется мне позднее... Я пойду в мир искать ее!”. Он быстро повернулся, чтобы сейчас же идти в мир...» (Т. I. С. 316).
Но настоящий ответ на его вопрос и иронично поданное горячее стремление молодого человека «идти в мир» и искать «глубокий и вечный» смысл истории и революции дает сам Алданов, в следующей строке останавливая взгляд читателя на фигуре, незамеченной взглядом романтично настроенного персонажа: «В двух шагах от него на перилах сидело каменное чудовище. Опустив голову на худые руки, наклонив низкую шею, покрытую черной тенью крыльев, раздувая ноздри горбатого носа, высунув язык над прямой звериной губою, бездушными, глубоко засевшими глазами в пропасть, где копошились люди, темный, рогатый и страшный, смотрел Мыслитель » (Т. I. С. 316)20.
К образу Мыслителя, констатирующего хаос Истории и бессмысленность людской – прежде всего революционной – суеты, примыкает у Алданова и сквозной символический образ книги пророка Экклезиаста , текст которой читает аббат Виньяли над телом мертвого Наполеона и лейтмотив которой – «все суета сует» – лежит в основе ал-дановского мировоззрения: «Аббат взял со стола свою Библию, нарочно им забытую там несколько дней тому назад, – книга лежала раскрытой – и стал читать. “Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы”. “Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим”. <...> “И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их”...» (СЗ. 1921. № 4. С. 83).
Ясно видно, что Алданов в тетралогии констатирует «время и случай» для величайших исторических катастроф, но это не значит (и об этом писатель прямо заявляет в «Ульмской ночи»), что «хаос Истории» непреодолим и фатален – о возможном спасении говорят не только «охранительные» символы тетралогии 21, но и прямые публицистические пассажи, опять «отданные» авторскому alter ego – Пьеру Ламору. Так, в одном из своих программных монологов, посвященных бессилию демократии 22 перед лицом революционного хаоса, алдановский легат указывает на единственный оставшийся выход из ситуации – спасение остатков культуры: «Никто не верит Директории, никто не верит в демократию. Какая уж демократия, когда исчезла у людей последняя тень уважения друг к другу! Наверху у правителей круговая порука пролитой крови, бесчисленных преступлений. Внизу в обществе круговая порука трусости, угодничества, лицемерия. Каждый знает все о других. Все узнали цену друг другу. Возьмите нашу молодежь, она уважает только силу. <...> Моральный багаж растерян. <...> Поймите, теперь есть только одна задача, сколько-нибудь стоящая усилий: надо спасти остатки французской культуры...» (СЗ. 1924. № 21. С. 104).
Как мы хорошо помним, именно в спасении русской культуры видели свою основную миссию и создатели «Современных записок», поставив эту задачу в основу программы издания. Насколько эта идея была интегрирована в пространство русского текста журнала (и разворачивалась она, разумеется, в первую очередь в рамках публицистического дискурса), свидетельствуют прежде всего многочисленные статьи ведущего сотрудника журнала, крупнейшего русского философа и богослова Г. Федотова. Например, в ставшем «прецедентным» сегодня цикле статей «Проблемы будущей России» (СЗ. 1931. № 43, 45–46) Федотов говорит о возрождении русской национальной культуры как о главной задаче ближайшего будущего, решение которой позволит преодолеть ужасающую духовную деградацию, порожденную – и здесь Федотов солидаризуется с рассуждениями Алданова-Ламора – революцией. Причем, как и в случае с Алдановым, Федотов ставит эту проблему в рамках оппозиции Космос / Хаос (порядок / стихия): «Мы говорим, конечно, лишь об энергии духовной культуры. Только здесь может идти речь об обмелении. Для хозяйственников и техников силы найдутся. Найдутся они, можно верить, и для чисто духовного (внекультурного) творчества, обладаю- щего способностью постоянного самовоспроизведения. Но тема духовной культуры ставит особые проблемы – для России всегда мучительные. Как духовная культура, она движется приливами подземных вод, лишь отчасти и редко связанных с надземным неистовством стихий. Как культура, она всегда хозяйство: строй, лад, согласие – над хаосом и стихией. Она всегда аполитична, хотя бы все подлинно ценное в ней притекало из откровений ночных мистерий. Пьяный Богом дикарь не творит культуры: он убивает Бога и ест его плоть. Для культуры существенны: творческая аскеза, учительство, предание, иерархия. Учительство и ученичество возможны лиши при различии уровней и уважении к нему. Действительно осуществленное – или мнимо утверждаемое – духовное равенство делает невозможным движение: движение вод зависит от разницы уровней 23. <...> Большевизм сознательно поставил своей задачей нивелирование культуры, и в этом преуспел, как ни в чем. Подъем народных масс сопровождался закрытием для них источников высшей культуры. В мире еще не было опыта подобного обезглавливания целой нации. Это ставит перед русским национальным возрождением совершенно особую задачу, обозначаемую нами как организация культуры. Сама постановка этой задачи требует оправдания. <...> Культура, как высшая форма творчества, прежде всего нуждается в свободе. <...> Как в сфере хозяйства, так и в сфере культуры ликвидация коммунизма есть прежде всего освобождение. И, однако, проблема организации существует. Ее необходимость вытекает из двух основных и трагических фактов большевистской диктатуры: 1) уничтожения старого образованного класса в России и 2) искусственной выгонки целого поколения в марксистском парнике. Организация русской культуры означает поэтому: 1) воссоздание культурного слоя и 2) выпрямление духовного вывиха целой нации» (СЗ. 1931. № 43. С. 406–407).
То есть в результате включенности тетралогии Алданова в текстуальное пространство «Современных записок», в результате корреляции семантики ее образов со смысловыми конструкциями русского текста издания можно с уверенностью говорить об акти- визации механизма переноса идейно-образного потенциала изображения писателем французской революции на революцию русскую 24. В случае использования этих герменевтических процедур мы получаем систему трансферов, в рамках которой русская революция – очередной раз на пространстве русского текста «Современных записок» – включается в принципиально апокалиптическую картину мира, в парадигме Алданов предчувствует и предрекает будущие мировые катастрофы, порожденные прошлыми трагическими «истоками», и одновременно вписывает их в общую картину эсхатологии Истории. Современной цивилизации суждено погибнуть, по мысли Алданова, в силу победы неотвратимо набирающих силу зла, хаоса и разрушения 25. В этой мысли писатель не был одинок ни в мировой литературе и философии, ни в русском тексте «Современных записок». Эту же символику Апокалипсиса (символы Потопа, Пожара, Креста и т. д.) на страницах журнала использовал и Д.С. Мережковский («Тайна Трех», «Мессия», «Тутан-камон на Крите», «Атлантида – Европа» и др.) для проведения параллелей между прошлым, настоящим и возможным будущим человечества в целом и России в частности. Тем самым герменевтика символики русского текста в художественном дискурсе «Современных записок» наглядно демонстрирует нам семантическое единство текста журнала на его различных уровнях.
Список литературы Символизация мифологемы хаоса на пространстве русского текста «Современных записок» (на примере тетралогии М. Алданова «Мыслитель»)
- Артемьева, Т. В. От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения/Т. В. Артемьева. -СПб.: Алетейя. -2005. -496 с.
- Богомолов, Н. А. «Современные записки»/Н. А. Богомолов//Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918-1940. В 4 т. Т. 2. Периодика и литературные центры. -М.: РОССПЭН, 2000. -С. 443-451.
- Делюмо, Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII-XVIII вв.)/Ж. Делюмо. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. -752 с.
- Жирар, Р. Насилие и священное/Р. Жирар. -М.: Новое литератур. обозрение, 2000. -400 с.
- Леви-Строс, К. Структурная антропология/К. Леви-Строс. -М.: Наука, 1985. -536 с.
- Ли Николас, Ч. Марк Александрович Алданов: жизнь и творчество/Ч. Ли Николас//Русская литература в эмиграции: сб. ст./под ред. Н. П. Полторацкого. -Питтсбург: Отд. слав. яз. и лит. Питтсбург. ун-та, 1972. -С. 95-105.
- Мюшембле, Р. Очерки по истории дьявола: XII-XX вв./Р. Мюшембле. -М.: Новое литератур. обозрение, 2005. -584 с.
- Ульяновский, А. В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы/А. В. Ульяновский. -СПб.: Питер, 2005. -544 с.
- Ханзен-Леве, А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм/А. Ханзен-Леве. -СПб.: Академ. проект, 2003. -512 с.
- Чернышев, А. Гуманист, не верящий в прогресс/А. Чернышев//Алданов, М. А. Собр. соч.: в 6 т./М. А. Алданов. -М.: Правда, 1991. -Т. 1. -С. 3-32.
- Элиаде, М. Космос и история. Избр. работы/М. Элиаде. -М.: Прогресс, 1987. -312 с.