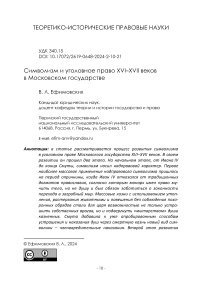Символизм и уголовное право XVI-XVII веков в Московском государстве
Автор: Ефимовских В. Л.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс развития символизма в уголовном праве Московского государства XVI-XVII веков. В своем развитии он прошел два этапа. На начальном этапе, от Ивана IV до конца Смуты, символизм носил надправовой характер. Первое наиболее массовое применение надправового символизма пришлось на период опричнины, когда Иван IV отказался от традиционных догматов православия, согласно которым монарх имел право мучить тело, но не душу и был обязан заботиться о законности перехода в загробный мир. Массовые казни с использованием утопления, растерзания животными и повешения без соблюдения похоронных обрядов стали для царя возможностью не только устрашить собственных врагов, но и подвергнуть «мытарствам» души казненных. Смута добавила к уже апробированным способам устрашения и наказания душ через смертную казнь новый вид символики - членовредительные наказания. Второй этап развития символизма начинается после завершения Смутного времени. Стремление к утверждению принципов справедливости уголовного законодательства безотносительно к сословиям привело к заботе государства об обеспечении христианского перехода в загробный мир для казненных и приданию символизму правовых форм.
Символизм, смертная казнь, деформация принципов уголовного права, смута, соборное уложение, религиозные основы
Короткий адрес: https://sciup.org/147244109
IDR: 147244109 | УДК: 340.15 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-2-10-21
Текст научной статьи Символизм и уголовное право XVI-XVII веков в Московском государстве
С имволизм, как отмечал Н. Н. Вопленко, есть выражение обобщенного смысла, абстрактного содержания через наглядную модель1. С момен‐ та возникновения древнерусского государства в его гражданском и уголов‐ ном законодательстве получили отражение символы – правовые идеи, сим‐ волы – правовые обряды, символы‐предметы, символы‐наказания. При этом символизм русского средневекового государства не исчерпывался лишь сим‐ волизмом правовой формы. В ряде случаев он мог носить надправовой ха‐ рактер – когда приобретал сакральные черты и не находил отражения в за‐ конодательстве. Особенно это проявлялось в ситуации применения смертной казни.
Средневековая казнь, по религиозным воззрениям, была принуди‐ тельным разделением души и тела раньше предопределенного Богом ес‐ тественного конца. Но при этом монархи конца XV – начала XVI века не были свободны в выборе репрессий и проверялись нравственными кате‐ гориями православия. Применительно к уголовному праву это означало, что монарх имеет право мучить тело, но не душу. Более того, монарх обя‐ зан был заботиться о законности перехода в загробный мир. Основными видами смертной казни в начальный период Московского государства были повешение и отсечение головы. И хотя первый вид казни считался позорным способом лишения жизни, тем не менее при соблюдении испо‐ веди и православной обрядности при погребении он, как и второй, не влек за собой каких‐то специфических последствий перехода души в дру‐ гой мир с религиозной точки зрения2. В то же время, как отмечал М. Н. Гернет, на уровне бытовой юридической психологии повешение имело особое символическое значение, поскольку предполагалось, что душа в момент смерти не может выйти через горло и покидает тело через оскверненные органы3. Весьма редким видом смертной казни было со‐ жжение, которое применялось только к еретикам. Символом здесь слу‐ жила очистительная сила огня. Единственный зафиксированный Ермолин‐ ской летописью случай подобной казни имел место в 1504 году в отно‐ шении ереси «жидовствующих», «когда Великий князь Иван Васильевич и
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ сын его... с Симоном митрополитом, и с епископы со всем собором обы‐ скаша еретиков и велеша лихих смертию казнити»4.
Кроме этих видов смертной казни существовал еще один жестокий вид лишения жизни по делам о нарушении государственно‐религиозных устоев – утопление. В качестве официального способа смертной казни («свержение с моста») оно было закреплено законами Новгорода и Пскова, то есть носило локальный характер. В Московском государстве утопление не было отражено в законодательстве и не применялось на основе обычных судебных проце‐ дур. Хотя отдельные случаи применения этого способа казни все же имели место. Например, Никоновская летопись сообщает, что в 1497 году на вели‐ кую княгиню Софью был донос: сообщалось, что к ней приходили лихие бабы с зельем. По приказанию Ивана III этих баб «обыскали» и ночью утопили в реке, а супруги своей великий князь стал побаиваться и жить с ней в «бере‐ жении»5. Но если властью подобный вид лишения жизни применялся редко, то среди народных масс он был вполне обычным результатом самосуда над заподозренными в колдовстве, чьи души подвергались мучениям до Страш‐ ного суда.
Все изменилось в период правления Ивана IV, прозванного Грозным. Соединение идеологии самодержавия и религиозно‐мистических воззрений этого правителя создало условия для появления особой концепции власти, которая наиболее ярко проявилась в годы опричнины. В основе концепции лежала идея синергийности, то есть взаимодействия человека и Бога через власть православного государя, который имеет право осуществлять воздая‐ ние не только за любые порочные действия человека, но и за помыслы. По выражению В. А. Рогова, это искусственно привнесенное в русскую право‐ вую мысль положение «перевернуло» основные уголовно‐правовые поня‐ тия6. Во‐первых, отпала необходимость нравственной оценки ценности жиз‐ ни с позиции православия. Одним из последствий этого стала возможность применения смертной казни к малолетним детям и несовершеннолетним. В Судебниках 1497 и 1550 годов отсутствовало указание на возраст наступле‐ ния уголовной ответственности, поскольку данная категория была прерога‐ тивой церкви. Так как преступление и грех отождествлялись, вменение на‐ ступало с момента возможности грешить. В Кормчих книгах различных ре‐ дакций XV и XVI веков предусматривалось освобождение от ответственности лиц до семи лет, и даже за совершение государственных преступлений несо‐ вершеннолетние старше семи лет не приговаривались к смертной казни. Во‐вторых, смертной казни стали подлежать не антигосударственные дейст‐ вия, а «злодейские помыслы» подданных. В‐третьих, на смену принципу ин‐ дивидуализации наказания, характерному для уголовной политики предше‐ ствующего периода, пришло объективное вменение для всех членов семьи, слуг и даже лиц, каким‐либо образом зависимых от «виновного». В‐чет‐ вертых, замена государственного судопроизводства личным судом царя спо‐ собствовала распространению принципа заочного осуждения. И наконец, право карать от имени Бога усилило связь наказаний с религиозной догмати‐ кой и привело к развитию надправового символизма в смертной казни, без которого была невозможна реализация важнейшей, с точки зрения царя, це‐ ли наказания – устрашения.
Устрашение в уголовном праве было немыслимо без символики, по‐ скольку символ выступал важным фактором влияния на сознание народных масс. Как утверждал А. Л. Юрганов, «средневековая культура была прониза‐ на амбивалентными значениями и всегда допускала сосуществование проти‐ воположностей». С одной стороны, вода выступала как символ крещения, а с другой, вне церковного освящения, – как место пребывания нечистой силы.7 И когда в период царствования Ивана Грозного началось массовое примене‐ ние этого способа смертной казни и было запрещено хоронить утопших, это не воспринималось современниками только как жестокость, ибо форма и сущность этих казней были им понятны. Н. С. Тихонравов в своем исследова‐ нии отмечал: «По мифическим русским воззрениям, выразившимся в много‐ численных и разнообразных произведениях народной поэзии, ад находится в пропастях на дне реки. Грешникам уготованы пропасти неисповедимые до Страшного суда»8.
Первое массовое утопление уже мертвых тел было осуществлено в от‐ ношении не православных, а мусульман. По запискам Генриха Штадена, по‐ сле взятия Казани жителей убивали, а их трупы привязывали к бревнам голо‐ вой вниз и бросали в Волгу9. Отметим, что воззрения шариата на нарушение обряда похорон близки к христианским. В исламе обряд захоронения – это форма уважения к усопшему и его душе, поэтому если он не соблюдается, то душа усопшего будет лишена успокоения и не сможет уйти в безграничный мир Всевышнего. Уже в период опричнины нечто похожее произошло с пра‐ вославными в Твери, где «всем убитым отрубали ноги – устрашения ради; а потом трупы их спускали под лед в Волгу»10. Царь нередко запрещал хоро‐ нить казненных по православному обряду. А. Шлихтинг описывает последст‐ вие нарушения подобного запрета. Некий воевода Владимир велел похоро‐ нить тело утопленного в реке по приказу слуги царя князя Курбского, за что его пытали, а затем убили и бросили в реку11. Утопление как основной вид массовой смертной казни было использовано и в Новгороде в январе 1570 г. Об этом наиболее подробно сообщал новгородский летописец: «Повелел царь приводити... владычних бояр и иных многих служивых людей и жен их и детей, и повеле их пред собой горце мучити и лютее и безчеловечнее, вся‐ кими различными муками... и повеле государь телеса их некоею составною мукою огненною поджигати... и быстро влещи за санми на великий Волхов‐ ский мост, и повеле их с мосту метати в реку Волхов... И таково горе и мука бысть от неукротимыя ярости царевы, поче же от Божия гнева грех ради на‐ ших»12. Эсхатологический образ подобной казни был понятен современникам как символ наказания грешников, которым уготована «вечная мука».
Кроме утопления, символизм проявлялся и в других казнях опричного периода. В Послании Иоганна Таубе и Элерта Крузе содержится описание смерти удельного князя Владимира Андреевича, его семьи и женщин из его окружения. Князь, его жена и дети, чтобы избежать казни, приняли яд, а вот с женщинами из его окружения царь жестоко расправился. Сперва их для постыдного зрелища травили собаками, а затем они были застрелены и рас‐ терзаны ужасным образом, их оставили лежать непогребенными под откры‐ тым небом птицам и зверям на съедение13. К подобному действию, когда
ЕФИМОВСКИХ В. Л. _____________________________________________________________ рассеченные тела отдавались на съедение животным, Ивана Грозного натал‐ кивало «Откровение» Иоанна Богослова. В этом сочинении смерть является в образе всадника на коне бледном, а за ним следует ад, которому дана власть «умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» (Откр. 6:8).
А. Шлихтинг описывает любимую «забаву» царя: «Если тирану любо усладить свою душу... то он приказывает зашить кого‐нибудь из знатных лиц в шкуру медведя... Наконец он выпускает собак чудовищной величины, кото‐ рые разрывают его на глазах самого тирана и сыновей его...»14 Известны так‐ же случаи, когда людей просто бросали на растерзание медведям15. На пер‐ вый взгляд здесь трудно проследить символическое соотнесение грехов человеческих с животными. Однако исследование Н. В. Покровского указы‐ вает на обратное. Собака в лицевых апокалипсисах олицетворяет зависть, от которой происходят наветы, ярость, вражда, распря, ненависть, памято‐ злобие и подражание. Что касается медведя, то он воплощал собой «чрево‐ бесие», порождающее блуд, отрицание закона, лжеклятие, пьянство, любо‐ сластие, татьбу, гортанобесие и нечистоту16.
В период опричнины и после нее в качестве одного из способов смерт‐ ной казни сохранялось повешение, но символизм наказания проявлялся лишь тогда, когда действовало запрещение хоронить тела казненных: хотя царь и не мог лишить казненных возможности стоять на Страшном суде, но до его наступления он обрекал их души на мытарства. В иных случаях приме‐ нялось и сожжение17, но огонь имел очистительную силу для душ грешников.
После упразднения опричнины в 1572 году массовые репрессии ушли в прошлое. А с 1578 года Иван Грозный вообще перестал казнить и начал ка‐ яться не только в «объядении и пиянствы», но и в «убийстве» (в этом он при‐ знаётся в своем завещании 1579 года)18. Не без участия царя в 1582 году Бо‐ ярская дума законодательно закрепила ответственность за ложные доносы19, на основе которых в период опричнины строились многие обвинения в из‐ мене. Данный акт Боярской думы фактически повторил статью 59 Судебника
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 1550 года, которая предписывала за ложное «ябедничество» в антигосудар‐ ственных преступлениях казнить смертной казнью. Таким образом, матери‐ альный талион (равное за равное) становился правовым символом.
После смерти Ивана Грозного в 1584 году власть попыталась возродить принципы уголовного законодательства доопричного периода. Сын Ивана Грозного Федор Иванович занимал престол четырнадцать лет, но фактиче‐ ским правителем был Борис Годунов, которого в 1598 году Земский собор избрал царем. В этот период произошла некоторая либерализация уголовной карательной системы. Как сообщал Конрад Буссов, Годунов «многие неис‐ правные дела привел в полный порядок, многие злоупотребления пресек, многим вдовам и сиротам помог добиться справедливости»20. Следует, одна‐ ко, отметить двуличность Годунова в этой сфере: массовых публичных казней при нем не было, но своих политических врагов он арестовывал и тихо от‐ правлял в ссылку или монастырскую тюрьму, где те обычно вскоре умирали – кто от яда, кто от петли, а кто и от невыносимых условий содержания, как, например, Михаил Никитич Романов в 1602 году.
Вторжение войск Самозванца положило начало гражданским войнам и иностранной интервенции. Этот период, получивший название Смуты, каза‐ лось, привел к возвращению террора опричнины, причем в еще бо́льших масштабах, поскольку насилие применялось всеми противоборствующими сторонами. В этих условиях, как отмечал В. А. Рогов, было уже недостаточно просто карать своих противников, нужно было обеспечить им неблагоприят‐ ные условия существования в загробном мире21. Как следствие, происходит возрождение символизма через массовое использование утопления и пове‐ шения без христианских обрядов погребения. Кроме того, в период Смуты начинается массовое использование членовредительных наказаний (отреза‐ ние языка, отсечение рук и ног). Жертвы подобных наказаний становятся символами устрашения. Важно отметить, что негативным следствием актив‐ ного и повсеместного применения членовредительных наказаний стала де‐ формация правосознания как властей предержащих, так и всего населения в сторону восприятия этих наказаний как обычного явления.
После окончания Смуты и укрепления династии Романовых государство стало щепетильнее относиться к вопросам веры, поскольку уголовная поли‐ тика в большей степени стала согласовываться с догматами православия, по которым государь был обязан заботиться о душах приговоренных к смертной казни, об их покаянии и погребении. Поэтому законодательного закрепления утопления как формы лишения жизни не произошло. Кроме того, как отме‐ чал В. А. Рогов, государство в XVII веке было озабочено поиском различных правовых форм, утверждавших принципы справедливости уголовного зако‐ нодательства безотносительно к сословиям22. Одной из таких форм, закреп‐ ленных в законодательстве, стал материальный и символический талион. При материальном талионе наказание соответствовало нанесенному вреду, а при символическом – наказанию подвергалась та часть тела, с помощью ко‐ торой было совершено преступление, то есть понесший наказание преступ‐ ник становился «афишей» символа. Так, Уложение 1649 года установило для фальшивомонетчиков смертную казнь залитием горла металлом (ст. 1 гл. V)23. Этот способ наказания, имевший символическое значение, практиковался еще в XVI веке. Материальный талион применялся ко всякому, кто «умышле‐ нием и изменою город зажжет»: тогда его самого следовало «зжечь безо всякого милосердия» (ст. 4 гл. II)24. Сожжение было предусмотрено и за под‐ жог двора ради вражды и разграбления (ст. 228 гл. X)25. Осуждение раскола и его криминализация также привели к использованию материального талио‐ на. По указу 1884 года подстрекателей к самосожжению из числа раскольни‐ ков стали приговаривать «в срубе жечь и пепел развеять»26. В случае ложного доноса в государевом деле или измене доносчик подвергался тому же нака‐ занию, которому должен был подвергнуться обвиняемый (ст. 17 гл. II)27, а это чаще всего была смертная казнь. Смертная казнь по принципу материально‐ го талиона применялась и в отношении отравителей: их заставляли выпить яд (cт. 23 гл. XXII)28.
Применение членовредительных наказаний, представленных в значи‐ тельном количестве статей Соборного уложения, также было связано с прин‐ ципом талиона, особенно символического, который служил своеобразным проявлением справедливости. Статьи 4 и 5 главы III устанавливали, что за об‐ нажение оружия или нанесение ран на царском дворе виновные наказыва‐ лись отсечением руки. Такое же наказание следовало по статье 9 главы XXI за третью кражу29. Отсечение руки Уложение предусматривало и для подья‐ чих за фальсификацию протоколов (ст. 12 гл. X)30. Статья 10 главы XIV уста‐ навливала урезание языка за ложные клятвы, в соответствии с Правилами святых отцов и апостолов31. Во всех этих случаях наказанию подвергался ор‐ ган, с помощью которого было совершено преступление. В качестве члено‐ вредительных наказаний по принципу материального талиона Уложением предусматривались отсечение руки, ноги, носа, уха, обрезание губ, выкалы‐ вание глаз (ст. 10 гл. XXII)32.
Нередко членовредительные наказания в Уложении выступали как символ совершения определенных преступлений и являлись своего рода справкой о судимости. Глава XXI предусматривала отрезание ушей за обыч‐ ную кражу (ст. 9, 10), первый разбой (ст. 16) и третью кражу рыбы из пруда (ст. 90)33. Отметим, что одновременно с отрезанием ушей применялось еще и клеймение в соответствии с указом от 19 мая 1637 года, который устанавли‐ вал «пятнати разбойников на правой щеке “рцы”; на лбу “земля”, на левой щеке “буки”. А татей: велел на правой щеке “твердо”, на лбу “аз”, “твердо” на левой щеке»34. Знаковым символом являлось и урезание ноздрей. Ста‐ тья 16 главы XXV Уложения гласила: «А которые стрельцы и гулящие и всякие люди с табаком будут в приводе дважды, или трижды... у таких людей поро‐ ти ноздри...»35 Дело в том, что церковь считала табачников грешниками, стремящимися к плотским удовольствиям, а сам табак – чертовым ладаном.
Таким образом, в истории развития символизма в уголовном праве XVI–XVII веков можно выделить два этапа. Первый этап охватывает время правления Ивана Грозного. Соединение идеологии самодержавия и религи‐ озно‐мистических воззрений царя стало основой для деформации многих сложившихся принципов уголовной политики и развития в сфере смертной казни символизма, носившего надправовой характер и лишавшего казнен‐ ных христианских погребальных обрядов. Непродолжительный этап некото‐ рой либерализации этой политики в конце правления Ивана Грозного и в пе‐ риод нахождения у власти Федора Ивановича и Бориса Годунова был прерван начавшейся Смутой, которая не только возродила надправовой сим‐ волизм смертной казни, но и привела к массовому использованию члено‐ вредительных наказаний.
Второй этап начинается с завершением Смуты, когда государство более щепетильно относится к вопросам веры и стремится согласовывать уголов‐ ную политику с идеями справедливости и догматами православия. В резуль‐ тате символизм приобретает правовой характер, а его символы не только включаются в структуру уголовных норм, но и становятся инструментом диф‐ ференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания.
Список литературы Символизм и уголовное право XVI-XVII веков в Московском государстве
- Акты Исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею. СПб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1841–1842. Т. 4: 1645–1676; Т. 5: 1676–1700.
- Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук: в 4 т. Т. 4: 1645–1700 / ред. А. А. Краевский. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1836.
- Буссов К. Московская хроника. 1584–1613. М.; Л.: Изд‐во Акад. Наук СССР, 1961.
- Вопленко Н. Н. Правовая символика // Правоведение. 1995. № 4/5. С. 71–73.
- Гернет М. Н. Смертная казнь: с прил. на особых листах 4 географических карт, 16 диаграмм в красках и 54 фотографий и рисунков. М.: Тип. «Я. Данкин и Я. Хомутов», 1913.
- Новгородския летописи. (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). СПб.: Археографическая комиссия, 1879 (тип. Имп. акад. наук).
- Памятники русского права. Вып. 5: Памятники права периода сословно‐представительной монархии. Первая половина XVII в. / сост. А. А. Зимин [и др.]; под ред. Л. В. Черепнина. М.: Госюриздат, 1959.
- Покровский Н. В. Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства // Труды VI Археологического съезда в Одессе (1884 г.) Т. 3. Одесса: Тип. А. Шульце, 1887. С. 285–381.
- Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографическою коммиссиею. Т. 12: VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб., 1901; Т. 23: Ермолинская летопись. СПб., 1910.
- Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе / пер. М. Г. Рогинского // Русский исторический журнал. 1922. Кн. 8. С. 30–59.
- Псковские летописи. Вып. 2 / под ред. А. Н. Насонова; Акад. наук СССР. Ин‐т истории. М.: Изд‐во Акад. наук, 1955.
- Рогов В. А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV–XVII вв. М.: Юрист, 1995. Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. Т. 3: Акты Земских соборов конца XVI – начала XVII века. Соборное уложение 1649 года. Акты Земских соборов 50‐х годов / отв. ред. А. Г. Маньков. М.: Юрид. лит., 1985.
- Скрынников Р. Г. Россия после опричнины: Очерки полит. и социальной истории / Ленингр. гос. ун‐т им. А. А. Жданова. Л.: Изд‐во Ленингр. ун‐та, 1975. Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Собраны и изданы Николаем Тихонравовым. (Приложение к сочинению «Отреченныя книги древней России»). Т. 1. СПб.: тип. т‐ва «Обществ. польза», 1863.
- Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Сказание Альберта Шлихтинга / пер., ред. и прим. А. И. Малеина; Акад. наук СССР. 4‐е изд., испр. и доп. Л.: Изд‐во Акад. наук СССР, 1935.
- Штаден Г. Страна и правление московитов (записки немца‐опричника) // Россия XVI века. Воспоминания иностранцев / пер. с нем. И. Анонимова, И. Полосина. Смоленск: Русич, 2003. С. 380–430.
- Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998.