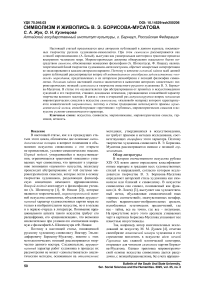Символизм и живопись В. Э. Борисова-Мусатова
Автор: Сергей Анатольевич Жук, Ольга Николаевна Кузнецова
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
Настоящей статьей продолжается цикл авторских публикаций в данном журнале, посвященных творчеству русских художников символистов. При этом символизм рассматривается как «способ миропонимания» (А. Белый), выступая универсальной категорией в трактовке процесса восприятия человеком мира. Мировоззренческая доктрина обнаружения идеального бытия посредством символов, обоснованная немецкими философами (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), являясь теоретической базой творчества художников интеллектуалов, обретает конкретные интерпретации ее моделирования в каждом авторском варианте. Поэтому в качестве основной задачи всей данной серии публикаций рассматривается вопрос об индивидуальном своеобразии художественных «моделей» мироздания, представленных в их авторском разнообразии с позиций философии символизма. Основная задача данной конкретной статьи заключается в выявлении авторских «акцентных» мировоззренческих позиций символизма в творчестве известного русского художника В.Э. Борисова-Мусатова. В статье это осуществляется при абстрагировании от принятых в искусствоведении суждений о творчестве Борисова-Мусатова, ставших досадными штампами, упрощающими сложнейший характер творчества великого мастера. В связи с этим, в очередной раз, актуализируется вопрос понимания мировоззренческих смыслов в искусстве символизма, «языковой» материал которого характеризуется семантической закрытостью, поэтому в статье традиционно используются приемы герменевтической логики, способствующие «прочтению» глубинных, мировоззренческих смыслов в искусстве условно-символического характера.
Искусство, символизм, миропонимание, мировоззренческие смыслы, гармония, вечность
Короткий адрес: https://sciup.org/147247759
IDR: 147247759 | УДК: 75.046.03 | DOI: 10.14529/ssh250206
Текст научной статьи Символизм и живопись В. Э. Борисова-Мусатова
В настоящей статье, как и в предыдущих статьях этого цикла, обозначены две основные методологические позиции в вопросе понимания и объяснения искусства символизма с его открыто не проявленным, условно-символическим языком. Первый подход, утвердившийся в искусствоведении, ограничивается трактовкой «внешних» узнаваемых черт символизма, что приводит к упрощению понимания «заумного» искусства, поскольку происходит абстрагирование от той системы мировоззренческих смыслов, которые легли в основу творчества художников, разделяющих философскую концепцию немецкого иррационализма. Второй подход апеллирует к философским учениям (А. Шопенгауэр [1], Ф. Ницше [2]), которые являются теоретической, мировоззренческой основой искусства символизма, обуславливая иррациональный характер художественных картин мира не только в изобразительном искусстве, но и в музыке и в первую очередь в литературе. Понимание иррационального аспекта такого искусства требует его расшифровки, его «рационализации», что возможно исключительно при условии его соотнесения напрямую с философией А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Поэтому в настоящей статье, посвященной русскому художнику-символисту Виктору Эльпидифоровичу Борисову-Мусатову, именно с этих методологических позиций рассматривается творчество данного мастера. Следовательно, иррациональный характер работ художника в процессе их рассмотрения не может «довольствоваться» аналитическим методом, основанным на описательных методиках, утвердившихся в искусствоведении, но требует приемов и методов исследования, соответствующих специфике этого характера. Поэтому творчество художника-символиста В. Э. Борисова-Мусатова рассматривается именно с позиций герменевтики.
Обзор литературы
В истории отечественного искусства рубежа XIX-XX веков давно определены классификационные маркеры и градации всех художественных стилей и направлений, согласно которым исследователи творчества В. Э. Борисова-Мусатова определяют авторский стиль художника как символизм или близкий к символизму. В искусстве символизма сам символ, понимаемый как функция (А. Ф. Лосев) [3], выступает как художественный метод, обуславливая символический язык «прямых соответствий», межчувственных метафор, особых выразительно-изобразительных средств, излюбленных эстетических предпочтений, где все - тайна, все не точно, где все - полунамек. На присутствие всего этого арсенала узнаваемых черт в картинах Борисова-Мусатова указывают все известные искусствоведы.
Так, например, автор многочисленных исследований по искусству М. М. Дунаев [4], отмечая своеобразие живописной манеры художника и его стремление воплотить в искусстве идею вечной Гармонии как главной эстетической категории, открывает для читателя символизм картин Борисова-Мусатова. Однако трактовка мировоззренческой основы искусства символизма дается рассудочно, с позиций рационализма, без учета иррацио- нальной природы данного искусства. Подобная трактовка творчества Борисова-Мусатова как художника-символиста, как было уже отмечено выше, поддерживается многими авторами.
Не оспаривая устоявшуюся в истории искусства точку зрения на творчество этого художника, современный искусствовед В. Ф. Круглов [5], наряду с другими авторами, в своих публикациях рассматривает тему влияния художественных принципов , заложенных Борисовым-Мусатовым, на творчество художников группы «Голубая роза»: Н. П. Крымова, П. В. Кузнецова, М. С. Сарьяна, С. Ю. Судей-кина, П. С. Уткина, - а также на развитие символизма в отечественном искусстве в целом.
Однако самым крупным специалистом в изучении данного вопроса признан исследователь истории русского и советского изобразительного искусства Д. В. Сарабьянов [6], который в своем фундаментальном труде «Русская живопись. Пробуждение памяти» дает подробный анализ всех «коллизий» развития основных форм символизма в отечественном искусстве, отводя в этом процессе значимую роль В. Э. Борисову-Мусатову как одному из основоположников символизма в искусстве живописи.
Наиболее развернутым и скрупулезным исследованием биографии и творчества художника из последних монографических изданий является книга искусствоведа, сотрудника Калужского областного художественного музея В. М. Обухова [7]. Автор критически отмечает факт литературной традиции идеализации творческого пути художника, поэтому в его книге дается более полная и критичная картина становления Борисова-Мусатова как человека и как живописца.
Нельзя не согласиться с тезисом последнего автора в том пункте, что трудно преодолевать оценочные штампы, сложившиеся в области истории искусства и утвердившиеся во времени под влиянием конвенционализма.
Следует отметить еще один тип публикаций о творчестве В. Э. Борисова-Мусатова, к которому можно отнести монографию, автором которой является О. Я. Кочик [8]. В книге рассматриваются специальные, собственно технические вопросы, связанные с композицией, рисунком, колоритом, ритмом. Ценным представляется то, что особенности техники художника раскрываются в контексте анализа стилистического своеобразия произведений Борисова-Мусатова, с учетом их эмоционально-смыслового аспекта.
Однако в целом в современной научной литературе о творчестве В. Э. Борисова-Мусатова следует констатировать отсутствие исследований собственно мировоззренческого характера, направленных на выявление глубинных, философских смыслов произведений, без «прочитывания» которых невозможно полное, адекватное понимание иррациональных аспектов творчества художника-символиста.
Методы исследования
В этой статье, как и в предыдущих работах, опубликованных в данном журнале, используется широкий спектр методов и приемов традиционных и нетрадиционных методологических систем. Так, наряду с традиционными, общенаучными методами, в статье используется инструментарий герменевтической логики, которая и выступает в качестве основной методологической базы настоящей работы. Данная логика основывается на мериоло-гическом следовании, которое представлено двумя основными методами: «абстрагирование» и «идеализация». Использование герменевтических приемов «вчувствования», «вживания», «интерпретации», «подведения» позволяет учитывать и адекватно интерпретировать внелингвистические и внерациональные аспекты условно-символического искусства с целью выявления и понимания его глубинных мировоззренческих основ [9].
Кроме этого, методологическая функция в данной работе закреплена за научной концепцией символа , обоснованной А. Ф. Лосевым [3], где символ рассматривается не как статичный знак, но как функция. Также в качестве общего подхода к пониманию искусства символизма предлагается рассматривать теорию А. Белого о символизме как способе миропонимания [10].
Системный, исторический, феноменологический и диалоговый подходы для данного исследования также являются базовыми. Все названные выше методологические позиции для нашей работы являются основополагающими.
Результаты и дискуссия
Вначале необходимо обозначить исходные теоретические позиции для рассмотрения в данной статье вопросов: о символизме В. Э. Борисова-Мусатова, об иррациональной природе искусства символизма и о многообразии авторских художественных картин мира, мировоззренческой основой которых выступает философия немецкого иррационализма (Шопенгауэра и Ницше). Эти философы, отвечая на «основной вопрос философии» о первопричине всего сущего, говорят о Мировой Воле, которая является извечным, идеальным, но иррациональным (неразумным) движителем всего мироздания. Первичное, вечное, ни от чего не зависящее - истина. Но истина в данном случае иррациональна. Познать «иррациональное» рациональным путем по определению невозможно. «Иррациональное» познается через «иррациональное».
Поэтому единственным способом постижения иррациональных глубин бытия через их мимолетные «мерцания» в явлениях повседневной действительности выступает символ – посредник между человеком и идеальными основаниями мироздания. Символ иррационален, он никогда не совпадает с самим собой, выходя за пределы само- го себя, спонтанно разлагаясь в бесконечные ассоциативные ряды. Символ - не статичный знак, он - функция [11].
Необходимым условием постижения и воплощения художником иррациональных основ мироздания является наличие у него способности к «гениальному» (А. Шопенгауэр) восприятию к миру, к переживанию особых психологических состояний. Поэтому основной формой познания запредельных областей бытия, воплощения их художником и понимания реципиентом их художественных интерпретаций в символизме является интуитивная сопричастность , отождествляемая с всеэмпатией, с мистическим прозрением творящей личности. Творческая индивидуальность такого художника, дистанцируясь от стандартов «материализма» и рационализма социального бытия, от «материальности» природы, устремляется всем существом своего сознания и своих душевных переживаний к духовной, идеальной сердцевине мироздания, к ее иррациональным тайнам.
Эти философские идеи символизма оказали большое влияние на творчество русских художников на рубеже XIX–XX веков. В России возникли целые творческие объединения художников-символистов: «Голубая роза» (П. В. Кузнецов, А. Т. Матвеев, М. С. Сарьян, В. Э. Борисов-Мусатов) - в Москве; «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, К. А. Коровин, Н. К. Рерих, М. А. Врубель, М. К. Чюрленис) - в Санкт-Петербурге. Художники-символисты, безусловно, личности философского склада. Каждый из них зачитывался «заумными» текстами трудов Шопенгауэра и Ницше. Однако существенным является то, что иррациональная картина мира немецких философов в творчестве каждого конкретного художника-символиста преломляется по-своему. Постараемся проиллюстрировать данный тезис.
Так, в творчестве М. К. Чюрлениса («ницшеанца») это выразилось в его живописном, интуитивном, метафизическом поиске не материального, но духовного измерения бытия идеальной Мировой Воли. Призрачный, тающий мир картин Чюрлениса, написанный прозрачными красками , - мир не материальный, но идеальный, показанный автором как некий алгоритм, как некая программа мировой бессмыслицы, в рамках которой маленький смертный человек взывает к Смыслу, … которого нет. Художник создал множество образных вариантов Мировой Воли в стремлении постигнуть то, что постигнуть невозможно . Именно этим обстоятельством обусловлена бесконечная множественность символических интерпретаций «непознаваемого» и «невыразимого» в искусстве.
Если литовский художник Микалоюс Чюрленис, чье творчество связано с немецким иррационализм и русским «космизмом», стремится всей своей жизнью к решению гносеологического во- проса в контексте искусства: познать запредельную Истину о мире, то другого художника-символиста, с теми же мировоззренческими предпочтениями, а именно М. А. Врубеля, захватывает тема «сверхличности». К слову сказать, идеи Ницше о «сверхчеловеке» определили не только мировоззрение символистов, но и революционный характер романтизма произведений А. М. Горького, и поэтику идей о мире Л. Д. Успенского [12], философию М. Хайдеггера [13]. Именно сверхличность, по мнению Ницше, должна «оседлать» безумную Мировую Волю, что нашло отражение в целом ряде работ художника, посвященных теме Демона - «сверхличности», которая бунтует против самого Бога. Картины «иномирия» Врубеля насыщены мистическим «синим», а «кристаллическая» манера письма художника заставляет сиять всеми оттенками синего светоносный образ Серафима на одноименной картине.
По-своему интерпретируется поиск запредельного, скрытого знания о мире в творчестве еще одного художника-символиста Н. К. Рериха. Чистые, незамутненные оттенки голубого, розового и белого цветов доминируют в картинах Рериха. Но в целом его творчество ассоциируется с голубым цветом -цветом надмирного, «горнего», духовного (сакрального) бытия, мистическим цветом, излюбленным всеми художниками и поэтами-символистами. В качестве символа Тайны, непостижимой для человека, выступают в работах художника недосягаемые, мистически окрашенные горы, по форме напоминающие строгие, гигантские, сияющие кристаллы. Они на полотнах Рериха как экраны, на которых мимолетным бликом угадывается мерцание духовных , сакральных глубин мироздания. Мир природы космически отстранен от человека. Здесь также чувствуется влияние не только немецкого иррационализма, но и «космизма» русской философии (Вл. Соловьев [14], Н. Ф. Федоров [15], В. И. Вернадский [16]), которые определяют мировоззренческую доминанту картин не только этого автора, но и других художников-символистов, а также поэзию русского символизма.
Таким образом, «эскизно» обратившись к творчеству известных художников-символистов, мировоззренческой основой искусства каждого из которых выступает философия «символизма» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), адаптированная к их личностным, акцентным духовным исканиям, мы продемонстрировали, насколько индивидуальны и самобытны модели художественного воплощения единой концепции, насколько индивидуальна и оригинальна живописная манера каждого из них. Этот небольшой, своего рода, «экзерсис» указывает на то, как многолик и разнообразен мир условно-символического искусства. Его философская семантика, символистский характер образности, стилевые методы и приемы гораздо сложнее и шире, чем, например, в реалистическом искусстве.
Особое место в этом ряду принадлежит русскому художнику-символисту Виктору Эльпидифоровичу Борисову-Мусатову (1870-1905). Сразу надо сказать о том, что в творчестве этого художника отсутствуют «ницшеанский» философский волюнтаризм (М. А. Врубель), или гносеологический радикализм вопрошания к миру (М. К. Чюрленис), или экзистенциальное искание Сокрытого Знания о мире (Н. К. Рерих), не говоря уже об изысках формотворчества в искусстве французских художников-символистов. Тем не менее, присутствие общих узнаваемых черт искусства символизма в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова, с их авторской интерпретацией, позволяет говорить о нем как о представителе именно этого художественного направления.
Особый способ созерцательности , настрой на диалогическую сопричастность человека миру -все это лежит в основе искусства и философии символизма, о чем было сказано ранее, и именно этими чертами характеризуются картины В. Э. Борисова-Мусатова. Все творчество художника связано с двумя категориями: Вечность и Гармония. В идеалистической философии символизма Вечность, Гармония, Истина рассматриваются как идеальные, нематериальные феномены высшего, духовного измерения, недосягаемого для человека. Поэтому патриархи искусства символизма для постижения этих тайн мироздания, да еще иррационального характера, осмысленно избирали иррациональный путь познания через практику внезапного озарения, откровения, интуитивного чувствования, вдохновения, медитации.
Характерной чертой картин художников -сим-волистов (М. К. Чюрленис, М. А. Врубель, Н. К. Рерих) является отсутствие суеты; в них присутствуют тишина, безмолвие, которые выступают как необходимое условие глубинного всматривания и вслушивания человека в мир, с одной стороны, а с другой - отсутствие движения выступает характеристикой самой Вечности . Фигуры людей на картинах символистов как бы «застыли». Они вроде бы и изображены художником в движении, но это движение … недвижно, как на русских иконах. В картине нет сюжета, но есть запечатленное мгновение, в котором открывается мерцание Вечности, что и соответствует идеям философского символизма и символизма в искусстве.
В картинах Борисова-Мусатова мы видим то же самое погружение автора в состояние тишины, глубокого миросозерцания, когда художник пытается уловить отблески высшего, идеального начала в окружающей его материальной действительности и передает это эффектом «недвижного движения» изображенных на многих его полотнах людей: «Изумрудное ожерелье», «Прогулка на закате», «Гобелен», «Летняя мелодия», «Отблеск заката», «Реквием», «Сон божества» (рис. 1).

Рис. 1. В. Э. Борисов-Мусатов «Сон божества», 1905, бумага, акварель, 70×106 см, Государственная Третьяковская галерея, Москва Fig. 1. V. Borisov-Musatov «The Dream of the Deity», 1905, paper, watercolor, 70×106 cm, State Tretyakov Gallery, Moscow
Бесконечно длящееся движение, когда возникает эффект его отсутствия («движение недвижно»), мы также встречаем на картинах Н. К. Рериха. Монотонно и неспешно уходит под землю народ чуди («Чудь подземная»), на фоне вселенского огненного пламени, в котором гибнет мир, черными силуэтами неторопливо и бессмысленно шествует куда-то вереница людей («Армагеддон»). Маленькая фигурка всадника-воина («Гессер-хан»), натянувшего лук, на фоне огромного пустынного мира непреодолимых гор выглядит одиноко и беспомощно: стрела не полетит, не в кого -безлюден мир. Мир огромен и вечен, затерян в нем человек. Гигантские кристаллы гор холодны и равнодушны, они не внемлют происходящему там, внизу. Отсюда ощущение тщеты, малости, почти отсутствия движения, когда «движение недвижно», что также усиливает эффект торжества Вечности, символом которой выступают сияющие неземными красками, вечные, незыблемые горы.
Проблема «движения» также присутствует в картинах М. А. Врубеля. В художественном пространстве картин художника природа отображается не реалистично, ее материальность дробится в «кристаллической» манере письма автора, и движению это мешает, ему становится тесно («Сирень», «Царевна-Лебедь», «Примавера», «К ночи», «Танец Тамары», «Скачущий всадник»). Движение увязает в этом кристаллическом мире, который автор видит каким-то другим зрением, через призму какого-то иного знания о нем, где проступают знакомые нам черты Вечности.
«Статику» движения можно отметить в «прозрачной», «нематериальной» живописи М. К. Чюрлениса, где движение замыкается на себе самом, как и на картинах Н. К. Рериха. Монотонно, медитативно движение огромной, бесконечной процессии на его картине «Похоронная симфония». Извивы этой уходящей под землю и никогда не заканчивающейся процессии, напоминают извивы Мировой Змеи («Аллегро», цикл «Соната Змеи»), в образе которой Чюрленис выводит Мировую Волю (Ф. Ницше), которой подчиняется все человечество. Массовое единообразие склоненных голов в одинаковых колпаках в ракурсе «вид сверху» вызывает ассоциацию с чешуйчатостью изгибов гигантской змеиной спины. На фоне масштабов этого вечного движения, продиктованного Абсолютом, смысл всякого другого движения теряется, видится иррациональным. Важно не отходить от понимания того, что художники-символисты изображают на своих полотнах не реальный мир, но увиденный «внутренним зрением» через призму «зауми» иррациональных онтологических построений немецких философов.
Характер «замершего» движения изображенных фигур, со всей своей очевидностью, просматривается также и на картинах В. Э. Борисова-Мусатова, однако здесь нельзя не заметить особенной стороны этого эффекта, рассматриваемого в контексте общих черт символизма. Дело в том, что всем своим творчеством, в противовес рационализму реалистического искусства передвижников, художник утверждает тезис о том, что в искусстве живописи эстетическая категория гармонии должна главенствовать над всеми другими, не допуская ничего рассудочного и случайного. Мучительные, творческие поиски гармонии в искусстве с особой выразительностью отразились в названии и содержании картин «Гармония» и «Водоем» (рис. 2).

Рис. 2. В. Э. Борисов-Мусатов «Водоем». 1902, холст, темпера, 177х216 см, Государственная Третьяковская галерея, Москва Fig. 2. V. Borisov-Musatov «Pond». 1902, canvas, tempera, 177x216 cm. State Tretyakov Gallery, Moscow
Кажется, что на картине «Водоем» автору с наибольшей точностью удалось уловить гармонические «созвучия» цвета, света и ритма. «Танцующая» графика линий, холодноватый синезеленый тон, озеро-небо (символистский прием «прямого соответствия»), на фоне которого со-причастны друг другу на уровне душ две хрупкие девушки. Нереалистичный, но художественно сочиненный мир в искусстве ориентируется на некую идеальную (духовную), гармоническую модель бытия, что, собственно, свойственно всем художникам-символистам.
Однако такая безусловная преданность, такое служение идеальному феномену Гармонии присущи только Виктору Эльпидифоровичу Борисову-Мусатову, о чем красноречиво свидетельствуют все его творчество и вся его жизнь. Поэтому на его картинах мы не встретим ничего некрасивого или случайного. Каждая его картина – это поиски идеальной красоты, «тихой» гармонии, выступающей в форме некой грезы о вечности, эффект которой передается «недвижным движением» изображенных фигур, которые как бы застыли, замерли, выступая лишь неким намеком, символом движения, но не им самим.
Именно таким видится шествие девушек на картине «Изумрудное ожерелье» (рис. 3): оно движется или остановилось? Девушки изображены и в статике, и в движении. Но движения девушек разобщены, нет общего ритма, потому они тоже статичны. Борисов-Мусатов отказывается от завершенных симметрично-осевых композиций. Композиции его картин изначально незавершенны, асимметричны и разомкнуты. На картине «Изумрудное ожерелье» на это указывает то, что фигуры девушек, размещенных с двух сторон картины, изображены не полностью, это создает эффект того, что происходящее событие не умещается в пределы художественного пространства картины и существует где-то, оставаясь невидимым для зрителя.

Рис. 3. В. Э. Борисов-Мусатов. «Изумрудное ожерелье» 1903–1904, холст, темпера, масло, 214,3x125 см, Государственная Третьяковская галерея, Москва Fig. 3. V. Borisov-Musatov. «Emerald Necklace» 1903–1904, canvas, tempera, oil, 214.3x125 cm. State Tretyakov Gallery, Moscow
Таким образом, на картинах возникает эффект некого вневременного измерения. Этот эффект достигается еще и тем, что художник дистанцирует зрителя от его собственного времени, уводя в другую историческую эпоху – в галантный XVIII век, когда искусство осознанно, мессиански служит ее величеству Красоте в ее классическом понимании. Гармонический строй архитектуры, музыки, поэзии, живописи классицизма оказался созвучным стремлению души художника, настроенной на улавливание «отблесков» надмирных, объективных оснований красоты.
Поэтому эпоха XVIII века на полотнах Борисова-Мусатова не отображается с исторической достоверностью, оставаясь тоже своего рода намеком – символом. Остаются не прописанными четко лица людей, как и не прописаны характерные исторические детали их одежды. Эскизное, обобщенное изображение камзолов и париков у кавалеров, платьев с кринолинами у дам - все это лишь намек на эпоху, создавшую искусство, где в спектре всех эстетических ценностей главной является категория «прекрасного». Именно этим обстоятельством привлекательна данная эпоха для художника, именно категория красоты (гармонии) выступает в качестве своеобразного эстетического абсолюта для творчества Борисова-Мусатова, как было отмечено выше.
Идеалистическим характером трактовки феномена красоты в искусстве символизма обусловлено его дистанцирование от изображения материальности природного мира, от передачи художественными средствами его физических характеристик. Поэтому живопись Борисова-Мусатова приглушенная: это мир мягких полутонов, пастельных красок, плавных линий и, конечно же, доминирования «мистического синего» над всей палитрой цветов, что является общей чертой для живописи символистов. Синий как бы пронизывает их картины, создавая эффект легкой сумеречной окрашенности, как будто в пространстве их художественных миров все время «вечереет».
В целом полотнам Борисова-Мусатова свойствен сине-зеленый колорит, выступающий общим тоном всех его картин, чем обусловлено их несколько меланхолическое и мистическое настроение, их наполненность «несказанным, «вечерним» отсветом. При этом важно отметить то, что сочетание синего и зеленого в картинах художника осуществляется через прием «посредничества» белого, - тогда зеленый (через белый) усиливает «звучание» синего цвета, делая его более выразительным.
Продолжая рассматривать тему технической стороны творчества художника в вопросе его ухода от изображения материальности мира, следует обратить внимание на вибрирующий характер используемого им мазка, напоминающего импрессионистский.
Таким мазком написана его последняя картина «Осенняя песнь» (рис. 4), в которой, благодаря технике художника, по-новому открывается панорама осени: медно-золотистых берез и высокого неба. Знакомая нам картина природы теряет контрастность, будто истончается на наших глазах и ... тает. Дематериализуется. «Несказанное , синее, нежное», - вспоминаются строчки С. Есенина. Как сказать о «несказанном? … только намеком, только символом.
При работе над своими картинами художник редко использует масло, в основном он работает темперой, которая не дает на полотне эффекта рельефа и бликов, она также обладает матовостью. Эта техника родственна технике иконописи, у которой такая же функция, как и у искусства симво- лизма: языком изографических символов икона говорит о мире духовном, о мире Вечности. Борисов-Мусатов при создании своих работ также часто обращается к акварели и пастели, руководствуясь теми же основаниями, что и при обращении к темпере.

Рис. 4. В. Э. Борисов-Мусатов «Осенняя песнь» 1905, бумага, пастель, 45x63 см, Государственная Третьяковская галерея, Москва Fig. 4. Viktor Borisov-Musatov «Autumn Song» 1905, paper, pastel, 45x63 cm. State Tretyakov Gallery, Moscow
Необходимо отметить еще одно обстоятельство, сближающее иконопись и символизм картин Борисова-Мусатова, - это уход от изображения материальности мира через нивелирование плотской чувственности в изображении человека. Плоскостное изображение фигур святых на иконе обусловлено недопустимостью плотского в мире духовном, поэтому иконописный канон запрещает прописывание анатомических объемов естественного человеческого тела. Также и в образах, запечатленных на картинах Борисова-Мусатова, отсутствует телесность: они полны легкости, невесомости, «бесплотности», как и окружающие их материальные, природные объекты. Материи больше нет на картине «Весна», все - эфир, все - дымка.

Рис. 5. В. Э. Борисов-Мусатов «Весна» 1898-1901, холст, темпера, 71х98 см, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Fig. 5. V. Borisov-Musatov «Spring» 1898-1901, canvas, tempera, 71x98 cm. State Russian Museum, St. Petersburg
Мимолетным видением кажется хрупкая, светлая фигурка девушки, лица которой мы не видим: она повернулась лицом и почти всем кор- пусом к цветущему саду, более того – она часть этого сада, она вместе с цветами этого сада, она – как они. Как же все тонко, хрупко и легко в этом бесплотном мире, не отягощенном материальностью и чувственностью. Здесь художник, кроме знакомых нам коротких мазков, обращается к мягким и крупным, как у французского художника-символиста Пюви де Шаванна, у которого он учился технике живописи в Париже.
Идеализированными женскими образами «населены» картины Борисова-Мусатова. Поиски Гармонии как Вечной Женственности и воплощение ее в искусстве были близки художникам-символистам (Н. К. Рерих) и русским поэтам «мла-досимволистам» (А. Блок, А. Белый). Но «хозяйка мира» на картинах Рериха выглядит торжественно, незыблемо-монументально («Хозяйка мира», «Мать мира»), а вечная женственность в поэзии А. Блока невольно ассоциируется с «упругими шелками» «Незнакомки», тогда как у Борисова-Мусатова все женские образы ассоциируются с какими-то воздушными, неземными цветами, все они как будто вырезаны из бумаги. В них нет телесности, нет чувственности, как на картине «Гобелен».

Рис. 6. В. Э. Борисов-Мусатов «Реквием», 1905, бумага на картоне, акварель, 52.7×76 см, Государственная Третьяковская галерея, Москва Fig. 6. V. Borisov-Musatov «Requiem». 1905, paper on cardboard, watercolor, 52.7×76 cm.
State Tretyakov Gallery, Moscow
Широко известны свидетельства современников художника о том, почему он одевает героинь своих полотен в платья с кринолинами: так несколько преодолевается чувственность женского тела, когда женщина становится похожа на цветок или цветущий куст. Таким образом художник не принимает стандарты этого мира, в том числе, стандарты красоты. Он создает свои идеальные миры, прозревая их духовным, «гениальным» (А. Шопенгауэр) видением. Его картины как некая магия, наваждение, сон. Помнится, кто-то из его друзей назвал его «спящим мальчиком».
Он умер внезапно, в тридцать пять лет. Известный скульптор А. Т. Матвеев в 1911 году создает и устанавливает на могиле своего друга, на обрывистом берегу Оки, недалеко от Тарусы скульптуру-надгробие, которая теперь называется не иначе, как «уснувший мальчик». Мальчик из гранита лежит в неловкой, беспомощной позе, хрупкий и открытый миру, от которого он уходил в удивительные миры своих полотен.
Эта скульптура – метафорический портрет не только художника-символиста, гения живописи В. Э. Борисова-Мусатова, но и тихая, торжественная «песнь» как посвящение всем, кто пришел в этот мир очарованным, «спящим мальчиком», чьи масштабы гениальности так и не позволили им признать этот мир своим.
Выводы
В заключение, конечно, следует отметить комплексный характер данного исследования, поскольку в самом начале статьи обозначены исходные теоретические позиции для рассмотрения вопросов: об иррациональной природе искусства символизма, о символизме В. Э. Борисова-Мусатова.
В контексте этой теории были отмечены общие черты художественных картин мира художников-символистов (Н. К. Чюрленис, Н. К. Рерих, М А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов), а также, с использованием метода сравнительного анализа, был рассмотрен вопрос об индивидуальном своеобразии творчества этих художников.
Так, для символизма живописи Н. К. Чюрлениса характерно использование прозрачных красок, что создает эффект призрачности «тающих» идеальных миров на картинах художника.
-
Н. К. Рерих по-своему интерпретирует запредельный, духовный мир, символом которого выступают мистически окрашенные горы, условный характер изображения которых придает им форму гигантских, сияющих кристаллов.
Особенностью картин «иномирия» у М. А. Врубеля является то, что они выполнены в авторской «кристаллической» манере письма и насыщены всеми оттенками мистического «синего», который выступает символом духовного, нематериального мира.
С учетом этих результатов, был осуществлен собственно искусствоведческий анализ картин русского художника символиста В. Э. Борисова-Мусатова с выявлением авторских, сугубо индивидуальных черт его творчества.
-
1. Во-первых, следует отметить характерный для картин Борисова-Мусатова особый способ созерцательности, нацеленный на поиски идеальной красоты, «тихой» гармонии как основы мироздания, что находит отражение в каждой работе художника.
-
2. Именно эстетическая категория идеальной красоты главенствует над всеми другими в картинах художника, поэтому они не несут в себе эстетики «некрасивого», «случайного» или «рассудочного».
-
3. Художественный эффект «недвижного движения», свойственный картинам художников-
- символистов, в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова обретает особый – вневременной – характер.
-
4. Эффект вневременного измерения в картинах художника усиливается тем, что он уводит зрителя в другую историческую эпоху, которая отражена условно-символически и видится зрителю как будто сквозь дымку ушедших времен.
-
5. Характерной чертой картин Борисова-Мусатова является их особый сине-зеленый колорит, где сочетание синего и зеленого осуществляется через авторский прием «посредничества» белого.
-
6. Особенностью технической стороны творчества мастера также является то, что художник при написании картин использует в основном темперу, которая не создает эффекта рельефа, бликов, но обладает матовостью, что также свойственно и технике иконописи.
-
7. Особенной стороной творчества художника является то, что он дистанцируется от изображения материальности мира, нивелируя в изображении человека его плотскую природу: образы на его картинах легки, невесомы, бесплотны, что опять-таки сближает символизм картин Борисова-Мусатова с символизмом иконописи.
-
8. Поиски мировой гармонии как Вечной Женственности были свойственны художниками поэтам-символистам, но только у Борисова-Мусатова все женские образы ассоциируются с бесплотными, воздушными, неземными цветами, что говорит о почти мессианском служении художника идеальной Красоте в искусстве.
В статье традиционно используются приемы герменевтической логики («вживание», «вчувство-вание», «интерпретация») , способствующие более глубокому пониманию мировоззренческих смыслов в искусстве условно-символического характера.