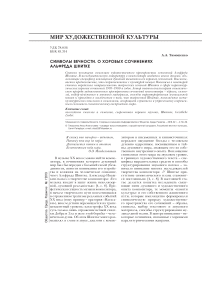Символы вечности. О хоровых сочинениях Альфреда Шнитке
Автор: Тимошенко Алиса Анатольевна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Мир художественной культуры
Статья в выпуске: 1 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена символике художественного пространства сочинений Альфреда Шнитке. В исследовательскую литературу о композиторе вводятся новые данные, объясняющие специфику воплощения духовной тематики его хоровых сочинений. Высказывается предположение, что соприкосновение с культурой немцев Поволжья в некоторой степени определила направленность творческих исканий Шнитке в сфере паралитургических хоровых сочинений 1970-1980-х годов. Автор статьи анализирует символическую природу художественного пространства сочинений композитора - образы, символы, выбор текстового и звукового материала, способы структурирования музыкальной ткани и приходит к заключению о том, что творчество Шнитке, наполненное метакультурными смыслами и символами, возвращает слушателя к утраченному современным сознанием символическому восприятию мира.
Воссоздание смыслов и символов, современная хоровая музыка, шнитке
Короткий адрес: https://sciup.org/140240798
IDR: 140240798 | УДК: 78.036
Текст научной статьи Символы вечности. О хоровых сочинениях Альфреда Шнитке
Тимошенко А.А. Символы Вечности. О хоровых сочинениях Альфреда Шнитке // Общество. Среда. Развитие. – 2019, № 1. – С. 50–56.
Общество. Среда. Развитие № 1’2019
Я скажу это начерно – шёпотом, Потому что еще не пора: Достигается потом и опытом Безотчетного неба игра.
О.Э. Мандельштам
В музыке ХХ века сложно найти композитора, в сочинениях которого духовный мир был бы передан с большей силой убежденности, ясности понимания его устройства и влияния на человеческое сознание, чем у Альфреда Шнитке. Александр Ивашкин сказал о творчестве композитора: «Его музыка входит в нашу жизнь неиллюзорной, духовной реальностью» [4, c. 8]. Про-фетическая сущность музыки композитора, в начале творческого пути воплотившаяся в отраженном трагизме реальных событий ХХ века (тому пример – оратория «Нагасаки»), впоследствии перемещается на трансцендентный уровень: катастрофы ХХ века суть только лишь отражение вечной схватки Добра и Зла и поле этой борьбы – человеческая душа. Об этом Шнитке много размышлял в слове и звуке, диалоги с компо- зитором в письменных и киноисточниках передают ощущение беседы с человеком духовно одаренным, посвященным в тайны духовного мира, знающим его из собственного внутреннего опыта. Воплощение символики этого мира на звуковом уровне, в границах художественного текста – специфика выразительных средств и способы структурирования звукового потока – занимало внимание многих исследователей творчества композитора: «У Шнитке присутствие символического плана становится постоянным» [4, с. 8]. В настоящей статье делается попытка исследовать связующие нити духовного и художественного опыта композитора, те моменты «памяти культуры» и его собственного жизненного пути, которые имплицитно формировали символическую природу художественного пространства его сочинений – образы, символы, выбор текстового и звукового материала, способы структурирования музыкальной ткани. В центре внимания – некоторые сочинения, связанные с хоровыми паралитургическими жанрами.
Анализ творчества Шнитке многих исследователей исходит из дискурса понимания его как композитора, в котором, по выражению В. Янкилевского, скрыт гигантский сложный пласт различных представлений о мире, художника-мыслителя, ориентированного на вечность [4, c. 251]. Музыкальный текст Шнитке ставит перед исследователем множество вопросов: 1. Соотнесенности понятий «язык–культура» и выхода на «метакультурный» уровень; 2. Актуализации «памяти культуры» через континуацию текстов культуры прошлого в современном сознании; 3. Проблемы символизации пространства и созда-ния/воссоздания смыслов в современной культуре и многое другое.
Особой областью исследований творчества композитора является вопрос взаимодействия композитора с пространством мировой культуры, «возвращение», воссоздание вечных метакультурных смыслов средствами актуального языка искусства, способность его музыкального текста осуществлять переход сознания переход «в другой режим бытия», в область символического мышления (М. Мамардашвили).
Как известно, появление основного массива хоровых сочинений Альфреда Шнитке связано с наступлением «тихого» периода конца семидесятых и до конца восьмидесятых годов. В это время у композитора появляется убежденность в том, что мир невидимый, духовный и есть «более истинная реальность» (А. Шнитке). На физическом уровне Шнитке переживал в эти годы очень сложный период – смерть родителей, тяжелая болезнь. Последнее событие – случившийся с ним инсульт, – когда сознание, по воспоминаниям композитора, находилось в «прерывистом» состоянии1, погружаясь в видения, породило ясную убежденность в существовании мира духовного, его ежеминутного присутствия и влияния на нашу жизнь. Появилось и новое ощущение «расширяющегося» времени, когда каждый момент насыщен событийностью [4, c. 131], и иное ощущение мира (пространства) – не кристаллического, а меняющегося в каждый момент времени.
В творчестве композитора с 1975 по 1989 годы один за другим появляются хоровые сочинения, связанные с парали-тургической христианской традицией: Реквием (1975), Der Sonnengesang на текст Франциска Ассизского (1976), Три хора (1984), Концерт для смешанного хора на стихи Григора Нарекаци из Книги скорбных песнопений (1985), Стихи покаян- ные для смешанного хора a capella (тексты XVI века) (1987). Все эти сочинения объединяет обращение к древним текстам, образующим ветвь мистического богословия разных христианских традиций, по своему мощному духовному потенциалу являющихся ключевыми в истории христианства. В одной из бесед с А. Ивашкиным композитор подчеркивает свою особую связь с это средневековой традицией как близким для него способом познания и понимания мироздания: «...все наивные мистики – те, которые были не склонны к систематизации и ограничению своего знания, а просто излагали его, – имеют для меня большее значение, чем возводящие стройное знание. В этом смысле если начать с Христа и взять Евангелие от Иоанна, или Августина, или Мастера Экхарта, или Франциска, – во всех этих случаях мы имеем дело с тайной, которая всегда тайной останется, и даже в таком наивном сoлнечном проявлении, как у Франциска. Тайной, которую не объяснишь. И это для меня наивысший вид литературы» [4, c. 134]. Иными словами, в музыке Шнитке отразилась «ненаивная» картина мира средневековых христианских мистиков, в наивности которых, по словам композитора «содержалась бесконечность» [4, c. 135].
Тексты средневековой традиции – Григора Нарекаци (IX–X вв.), Франциска Ассизского (XII–XIII вв.), Покаянные стихи (XVI в.), так же как и поэзия миннезингеров, средневековая легенда о Докторе Фаусте присутствуют в сознании композитора как вечные тексты, продуцирующие актуальные смыслы, продолжающие существовать, «прорастающие» в культуре и влияющие на сознание современного человека. Их особенностью было их по-лукнижное бытование, «тексты ... передавались от поколения к поколению, обрастали толкованиями, вызывали к жизни многочисленные подражания» [3, c. 115]. Был ли подобный выбор только результатом познания, интеллектуальной работы? Отмеченный В. Янкилевским «гигантский сложный пласт представлений о мире» у Шнитке следует искать в начале его жизненного пути.
Шнитке родился в в 1934 году в г. Энгельсе Саратовской области, в 30-е годы бывшем столицей Республики поволжских немцев, поселившихся на этих землях со времен правления Екатерины II2. По линии матери он был немцем, выходцем из весьма закрытой этноконфес-сиональной среды поволжских немцев, отличавшихся особой религиозностью.
Общество
Эта религиозность, нередко граничащая с фанатизмом, однако позволила сохранять немецкой диаспоре свою этническую идентичность – язык, культуру, музыкальные традиции – на протяжении более чем двух столетий. Несмотря на то, что Шнитке нигде рассказывает об этом подробно, сложно поверить, что такой тонко чувствующий любую культуру художник, этого не замечал.
В одной из своих бесед Шнитке упоминает, что первые разговоры о религии у него были с бабушкой. Ее глубокая религиозность проявлялась в том, что, будучи католичкой, но не имея Библии на латыни, она каждый день читала ее в
Общество. Среда. Развитие № 1’2019
«лютеровском» варианте, т.е. на немецком языке, тем самым «совершая смертный грех», поскольку богослужебные тексты для католиков были исключительно на латыни. Общение между ними происходило на немецком языке, сохранившем слова и выражения и больше походившем на старонемецкий, что позволило впоследствии Шнитке понимать многие устаревшие слова и выражении из писем Моцарта. Сложно сказать, насколько глубоким был контакт с этой закрытой культурной и духовной средой, но, тем не менее, Шнитке впоследствии скажет: «...мой внутренний мир – это несуществующая более Германия Гете, Шиллера, Гейне» [13, c. 169]. Сосуществование реалий советского режима и быта и сакрально-культурного пласта средневековой, барочной, по сути, Германии, быть может, и были тем фундаментом, на котором впоследствии выросли константы художественного мышления композитора – единовременного с о -бытия разных миров, разных исторических пластов культур, разных времен.
Осознанное переживание настоящего как свернутых в пространстве временных пластов, Шнитке ощущает, попав в двенадцатилетнем возрасте в Вену. Он осознает это чувство через восприятие культурных слоев, наполняющих физическое и духовное пространство разрушенного войной, но сохранившего «гордое и жизнестойкое начало» (А. Шнитке) города: «...настоящее – не отдельный клочок времени, а звено исполненной смысла исторической цепи, все многозначно, аура прошлого создает постоянно присутствующий мир духов, и ты не варвар без связующих нитей, а сознательный носитель жизненной задачи» [13, c. 171]. Там же и начинает формироваться понимание жизненной задачи художника – передать это ощущение, убедить в существовании этого «свернутого времени», прорастания и всеприсутствия прошлого в каждом явлении, в каждом факте культуры, в каждом человеке. Бесконечность обертонального ряда каждого звука, о которой не раз говорит Шнитке, могла бы послужить прообразом подобного взгляда на мир.
Закрытая общинная жизнь поволжских немцев сформировала и особую закрытую музыкальную традицию. Культура поволжских немцев представляла особый этноконфессиональный анклав, в котором сохранялись почти в неизменном виде церковно-певческие традиции Германии эпохи барокко. «Волжские немцы-колонисты отличались глубокой религиозностью и обособленностью от окружающих инонациональных поселений...», а «в географической и культурной изоляции кое–что из старого сохранилось дольше, чем в Германии <...> особенно архаичным оказался песенный материал поволжских колоний» [цит. по: 12, c. 92]. И это несмотря на то, что в послерволюционный период этно-конфессиональная культура поволжских немцев понесла невосполнимые потери [12, c. 95].
Современный исследователь песенной культуры поволжских немцев Е.М. Шишкина отмечает: «Часть сюжетов и поэтических текстов, сохранившихся до нашего времени, коренится в средневековых легендах и псалмах, принадлежащих VII– XVI вв. Соответственно такому большому промежутку времени в них можно проследить различные влияния: в немецкую духовную поэзию в разное время внесли свой вклад и протестантская ортодоксия, и мистика, и пиетизм, и светская поэзия эпохи барокко» [12, c. 108]. Знаменитые средневековые сюжеты о Деве Марии, о святой Екатерине, о святой Одилии, Лазарусе, городе Ершалаиме – «наивный» мистицизм, религиозная экзальтация, воплощение духовных состояний в ярких символах христианских легенд и преданий были и являются стержнем традиции Geistliche Lieder – духовных песнопений, и Kirchliche Lieder – церковно-песенной культуры поволжских немцев.
Хоровые сочинения Шнитке практически все написаны на тексты духовного содержания. Примечательно, что в первый хоровой опус «Голоса природы» для 10 женских голосов и вибрафона (1972 год) Шнитке пишет на «безмолвный» текст, символизирующий природные звучания тишины. Позднее эта линия звучания природного ландшафта получает продолжение в музыке, написанной на текст зна- менитой лауды средневекового богослова-мистика Франциска Ассизского «Песнь о Солнце» (1225 г.), данной композитором в немецком переводе Der Sonnengesang Des Franz von Assisi (1976 год), что само по себе тоже символично в контексте детских впечатлений композитора.
Сочинение Франциска Ассизского – один из первых примеров паралитурги-ческого музыкально-поэтического жанра лауды (ит. lauda – хвала), получившего распространение в Италии XIII–XVI веков. Монодические по своему складу лауды впитали влияния самых разных песенных и танцевальных жанров традиционной музыкальной культуры. Избирая этот жанр с богатыми корнями и «помещая» его в контекст современной культуры, композитор сообщает ему актуальность, вневре-менность. Гимн воплощает псалмодичес-кую традицию хвалы Творцу мироздания. В лауде Фр. Асиззского он поется от имени святого. В хоровой композиции все мироздание – природа и человек – славит своего Творца. Созданный композитором «акустический рельеф» (Шнитке) сочинения – вырастающая из монодического звучания, наслаивания сольных партий фактурная масса хорового канона с тембровыми модуляциями, модальными отклонениями, занимающая все более и более высокие регистры звучания – создает образ пробуждающейся природы: голоса птиц, шум леса, ветра, воды, «шепот» уходящих ночных светил, восхваляющих своего Создателя. Это «литургия природы», окружавшая в отшельнических служениях Франциска Ассизского (святой, прозревавший в любой из форм сущего элемент святости, в современной католической литургике почитается как покровитель живой и неживой природы), которую, в то же время дано слышать и современному человеку. Образ святого как символ единства с гармонией Божественного мироздания в музыкальной культуре ХХ века приобретает знаковый характер3, особенно если вспомнить оперу О. Мессиана «Святой Франциск Ассизский», написанную позднее сочинения Шнитке в 1983 году, где одной из линий которой стало молитвенное единение св. Франциска с природой (часть VI «Проповедь птицам»). Приведем строфу из лауды средневекового мистика:
Восхваляем Ты, мой Господи, и за сестру луну и звезды, которые на небе Ты сотворил яркими, драгоценными и прекрасными.
Мотивы славословия Творцу мироздания, унаследованные от традиции псалмопения, заметны и в поэтике Geistliche
Lieder. Как правило, они сопровождаются скорбными размышлениями по поводу земного бытия:
Моя жизнь промчалась так быстро. / Я нахожусь в конце пути. / В моей родине – весь мой смысл – В ее золотых переулках. / Припев: И все же о его великолепии уже / Ангелы Бога поют: / «Да, страна Бога, звезда трона» – / Золотые арфы звенят [цит. по 12, c. 111].
Мироздание, небесное пространство в средневековой христианской эстетике выступало как символ контакта с истинным бытием, с божественной сферой. В поэтике Geistliche Lieder эта аллегория сохраняется: целью земного существования становится обретение вечного дома – небесного пристанища, что, в сопоставлении с трагическими в истории русских немцев событиями эпохи 1920–1950 годов становится очень созвучным строкам стихотворения О.Э. Мандельштама: И под временным небом чистилища / Забываем мы часто о том, / Что счастливое небохранилище / Раздвижной и пожизненный дом.
Тема небес как «вечного дома» является лейтмотивной в поэзии поволжских немцев:
Приближается чудесное время / Где ощущаешь наивысшее наслаждение / Где замолчат все жалобы / Звезда на небе уже кивает Тебе, около трона своего отца [12, c. 110].
О, Спаситель, небо открой. / К нам спустись с неба бегом, / Открой же небесную дверь, / Не останавливайся, мы просим тебя [12, c. 108].
Тема небесного дома как идеального духовного пространства, в котором только и может существовать любовь – одна из ключевых в избранном Шнитке текста для своего сочинения «Три Мадригала» на стихи Ф. Танцера «Stimmen»:
№2 Отдаление
Два человека \ встретились на звезде \ они видели небо всех \ цветов как брат-сестра во-едино\
Два человека расстались \ она остается его матерью \а он ее отцом \ на звезде земля зовет
№3 Отражение
Любовь перенесенная\ Во внешнее про-странство\ вино из золотых фруктов
Любовь перенесенная\ во внешнее про-странство\ небеса миллионов оттенков
Любовь перенесенная\ во внешнее про-странство\ конец человеческого рода
[Цит. по: 10, c. 151]
Символика «открытого неба», присутствующая в картине мира поволжских немцев: «Der Himmel steht offen / Небо стоит открытым» [12, c. 109] – одна из мистичес-
Общество
ких богословских максим средневекового христианского мироощущения. Ее влияние отображается и в художественном пространстве Шнитке, воссоздающем забытые европейской культурой последних трех столетий смыслы, ценности: 1. Близость Бога, реальность духовная более истинна, чем настоящая, физически ощущаемая (Открытые Небеса). 2. Борьба Добра и Зла происходит в мире постоянно, и поле брани – человеческая душа. В музыкальном языке композитор приходит к концепции
«расширяющегося времени»: для мироздания значение имеет каждый мир бытия, каждый миг изменчив и неповторим. Поэтому так важны тембровые модуляции, ладовые перекраски, воплощенные в драматургии статики (В. Холопова), микроин-тервальные переливы тембровой магмы хорового tutti, присутствующие в Der Son-nengesang.
К моменту написания хоровых сочинений Шнитке уже многого достиг как композитор-симфонист. Его музыка – сочинения в крупном симфоническом и камерно–инструментальном жанрах, а также аналитические статьи, в которых обобщается и излагается его теория тембровой шкалы и функционального использования тембровых связей [13, c. 79–84], являются серьезным вкладом в теорию тембрового мышления ХХ века.
Общество. Среда. Развитие № 1’2019
Поэтому объяснимо, что к православной церковно-певческой культуре Шнитке обращается сначала как инструменталист, используя принципы работы с инструментальным тембром. С 1974 по 1979 гг. композитор пишет цикл Гимнов для разных камерно-инструментальных составов: I – виолончель, арфа, литавры, II – виолончель, контрабас, III – виолончель, фагот, клавесин, колокола, IV – виолончель, контрабас, фагот, клавесин, арфа, литавры, колокола (2 исполнителя на ударных инструментах). К этому времени у композитора уже состоялось множество тембровых открытий в работе над оркестровыми сочинениями. С точки зрения технологии композиторского письма, Гимны интересны именно взаимодействием инструментального и вокального начал. С точки зрения художественной концепции – в этом цикле реализуется метод отражения «целостного феномена» – воссоздания не только звуко-музыкального образа древнерусского церковного пения, но и всей акустической среды храма и пространства, его окружающего. Композитор, обращаясь к тому или иному артефакту ушедшей культуры, задумывался о воссоздании его целостности, которая предполагала, в том числе, и окружающее пространство, создавала некую мифологическую среду его бытийности. «Старинный жанр для него, – пишет В.Н. Холопова, – прежде всего художественный феномен и целостная модель мировосприятия, образующая линию преемственности, связь эпох» [10, c. 104]. Известно, что в Первом Гимне Шнитке обращается церковному трехголосному гимну «Святый Боже» в расшифровке М. Бражникова4.
Как отмечает В. Холопова, эмоционально-колористическая атмосфера «Гимна 1» чем–то напоминает психологическую обстановку фильма А. Тарковского «Андрей Рублев»: «гулкость пустых пространств, многотрудность создания шедевров искусства» [9, c. 189]. В Гимне I гулкость храмового пространства создается средствами тембро-фактуры и гармонии. В начале композиции объемы этого пространства как бы «сканируются» – отдельные звуко-комплексы звучат у инструментов с эффектом резонанса, имитируя «препятствия» отражающих стен и сводов храма. В. Холопова называет этот эффект «гулкостью пустых пространств» – «гул многоголосия, который возникает в храме как акустическое отражение одноголосия» [9, c. 189], в котором «словно кроются таинственность и неразгаданность, мощь усилий творящих «на веки веков» – тот комплекс представлений, который возникает при соприкосновении с древнерусской культурой» [9, c. 189].
Но нужно учитывать, что символические звучания редко бывают не связаны с комплексом синестетических ассоциаций. И у Шнитке символика Храма воплощается не только в комплексе звуковых впечатлений, но и как целостное «храмовое действо», в том понимании синтеза его элементов – цвето-свето-звуковой симфонии богослужения, который вкладывал в это понятие о. Павел Флоренский [14].
Во Втором Гимне акустическое пространство моделируется звучанием низкого регистра контрабаса и «отраженных» звучаний виолончели, выстраиванием созвучий, усиливаемыми обертоновыми гармониями, созданием «резонирующего поля». Появление древнего напева «Свя-тый Боже» в партии арфы, сосредотачивает внимание на внутреннем «пространстве» души.
Звучание колоколов, получающее широкую экспозицию в Третьем Гимне, расширяет внутренне пространство храма, заставляет посмотреть вовне, в контекст окружающего его ландшафта. В Четвертом Гимне происходит трансформация ментального пространства: из сакрального оно переходит в мирское, храм окружен городской суетой, появляются скоморошья плясовые наигрыши, стихия танце-вальности стирает из памяти возникшее в храме состояние высокого духовного напряжения. Знаки духовного бытия – песнопения, образы пространства, наполненного древними фресками, на которых падают колеблющиеся блики пламени горящих свечей, звуки и благоухание богослужения – все тонет в шуме и суете мира. Поэтому финальный IV Гимн оставляет скорее ощущение трагической философской рефлексии-эпитафии об ушедшей древней культуре.
Образ Храма как сакрального акустического пространства получает отражение в Трех хорах – «Богородице, Дево, радуйся», «Иисусова молитва», «Отче наш», в котором композитор целиком ориентируется на традицию русского духовного концерта. В первом хоре с помощью «подголосочности» создаются эффекты «наплыва», напоминающие ощущение реверберации в больших храмах, а мягкие кластерные звучания в конце строф усиливают этот акустический эффект. «Иисусова молитва» напротив, возвращает во внутреннее пространство души, тем самым подчеркивается ее сущность – аскетическое внутреннее «умное делание», творение молчаливой молитвы. Третий хор «Отче наш» снова возвращает в акустическую среду соборной молитвы, наполняющую своды храма. В музыке композитора передается одна из важнейших черт эстетики православной церковно-певческой традиции, отмеченная И.А. Чудиновой: «В церковной традиции звучание голоса осмысляется через архитектурное пространство, певческие ощущения соотносятся с двигательной ориентацией внутри архитектурной среды» [11, c. 32].
В «Стихах покаянных» для хора a capella в 12 частях на духовные тексты XVI в., созданных в 1988 году к празднованию Тысячелетия крещения Руси, композитор уже выступает как мастер хорового письма, владеющей тембровой палитрой хора, историческими стилями церковного пения в их специфическом фактурном и интонационном воплощении, и создавший свое художественное пространство, в котором эти стили, «прорастая» друг в друга, создают уникальное тембро-интонационное поле сочинения. В «стилевом фонде» этого сочинения как бы запечатлена вся русская православная церковно-певческая традиция – от знаменного распева до духовно- го концерта Чайковского, Рахманинова и Гречанинова. «Стихи покаянные» относятся к жанрам паралитургической музыки, традиция которых в истории русской музыкальной культуры состоит из многих «ветвей» – древнерусское певческое искусство (знаменны распев с исоном, подстрочное трехголосие), сочинения композиторов XVIII – начала ХХ веков Березовского, Бортнянского, Веделя, Чайковского, Раманинова, Гречанинова, Чеснокова; народная культура духовных внелитурги-ческих песнопений: духовные стихи, песенный фольклор, канты, псальмы и др.5 В Покаянных стихах фактурно-тембровыми средствами осуществляется жанровая модуляция – начинаясь в изложении, напоминающем знаменный распев с исоном, хоровая фактура все больше заполняется фрагментами звучания «партесного» хорального склада, в то время как линия «знаменного письма» трансформируется в приемы современного хорового письма с использованием речитативного склада.
Но поразительным остается то, что, передавая длящееся состояние глубокого покаяния, 40-минутное сочинение ни на миг не ослабляет внимание слушателя. Высота духовного напряжения, переданная в музыке Шнитке, позволяет соотнести это сочинение с богослужением, совершаемым на первой неделе Великого поста – Каноном Андрея Критского. Безусловное влияние Покаянного канона отражено и в композиции хорового цикла – IV части «Душе моя, душе моя, почто во гресех пребываеши» перекликается с исполняемым в VI песне Канона песнопении «Душе моя, душе моя, восстании, что спиши». Образ пустыни во второй части отсылает к символам аскезы и подвижничества пустынножителей, один из ключевых образов которого – преп. Мария Египетская – упоминается в Каноне А. Критского.
Покаяние и молитва как единственное состояние, приближающее человека к Богу – эту максиму христианской картины мира Шнитке заново «открывает» своим современникам, в силу исторических катастроф находившимся вне «силового поля» духовной традиции. Тем самым композитор уже не просто реконструирует артефакт культуры, но, воссоздавая смыслы и символы, воздействует на сознание, вызывая те состояния ума и души, которые восполняют «недостаток символизма», свойственный современной цивилизации, в которой, по словам М. Мамардашвили и А. Пятигорского, слишком «мало символов для нашего собственного оперирования и
Общество
потребления» [6, c. 100]. Изменение сознания, согласно М. Мамардашвили, происходит через длительно переживаемые состояния, «стояния мысли», «пребывания на одной линии», будучи необходимым свойством символического мышления6 [5, c. 61]. Этим своим качеством духовные хоровые сочинения Шнитке возвращают сознание слушателя в поток памяти – памяти индивидуального жизненного опыта (осознание себя и своего пути), памяти культуры (понимание, включение в опыт культуры), духовного опыта (осознание во вневременном, вечном, метакультурном опыте). Память для композитора – акт осознания, символ «вечной сознательной жизни» [6, c. 120]. Творчество Шнитке создает такое смысловое поле, в котором, по словам С.С. Аверинцева, «...содержание подлинного символа через опосредующие смысловые сцепления всякий раз соотнесено с «самым главным» – с идеей мировой целокупности, с полнотой космического и человеческого «универсума»« [1]. Символы Вечности в музыке композитора – память, время, истина, тайна – задают «программу», побуждающую наше сознание «погружать каждое частное явление в стихию «первоначал» бытия и дать через это явление целостный образ мира» [1], по сути – вернуться к утраченному современным сознанием символическому восприятию мира.
Список литературы Символы вечности. О хоровых сочинениях Альфреда Шнитке
- Аверинцев С.С. Символ. -Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/simv.php (09.02.2018)
- Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века. -М.: Мысль, 1995. -637 c.
- Васильева Н.Э. «Слово к Богу из глубины сердца»: хоровые концерты Альфреда Шнитке//Жизнь религии в музыке: сборник статей/Ред.-сост. Т.А. Хопрова. -СПб.: Сударыня, 2006. -С. 107-123.
- Ивашкин А.В. Беседы с Альфредом Шнитке. -М.: РИК «Культура», 1994. -304 с.
- Мамардашвили М.К. Картезианские размышления/2-е изд. -М.: Прогресс, 1999. -352 с.
- Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. -Санкт-Петербург: Азбука, 2011. -320 с.
- Рыцарева М.Г. Царь Давид и лягушка//Opera musicologica. -2017, № 3(33). -С. 5-20.
- Холопова В.Н. Композитор Альфред Шнитке. -Челябинск: Аркаим, 2003. -256 с.
- Холопова В.Н. Типы новаторства в музыкальном языке русских советских композиторов среднего поколения//Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. -М.: Советский композитор, 1982. -С. 158-205.
- Холопова В.Н., Чигарева Е.И. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. -М.: Советский композитор, 1990. -350 с.
- Чудинова И.А. Время безмолвия: музыка в монастырском уставе. -СПб: Российский институт истории искусств, 2003. -187 с.
- Шишкина Е.М. Традиционное музыкальное наследие волжских немцев в прошлом и современности: проблемы этнической идентичности. -Астрахань: ГФЦ «Астраханская песня», 2008. -344 с.
- Шнитке А.Г. Статьи о музыке. Ред.-сост. А. Ивашкин. -М.: Композитор, 2004. -407 с.
- Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств//Флоренский П.А. Иконостас: Избранные труды по искусству. -СПб.: Мифрил, Русская книга, 1993. -С. 283-307.