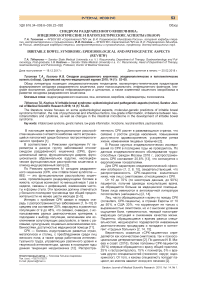Синдром раздраженного кишечника: эпидемиологические и патогенетические аспекты
Автор: Тихонова Т.А., Козлова И.В.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Внутренние болезни
Статья в выпуске: 1 т.14, 2018 года.
Бесплатный доступ
Обзор литературы посвящен эпидемиологическим тенденциям, молекулярно-генетическим предикторам формирования синдрома раздраженного кишечника, роли психосоциального, инфекционного факторов, low-grade воспаления, дисбаланса нейромедиаторов и цитокинов, а также изменений кишечного микробиома в развитии синдрома раздраженного кишечника.
Воспаление, гены, микробиом, нейромедиаторы, психосоматика, синдром раздраженного кишечника
Короткий адрес: https://sciup.org/149135066
IDR: 149135066
Текст научной статьи Синдром раздраженного кишечника: эпидемиологические и патогенетические аспекты
-
1В настоящее время функциональные расстройства кишечника считаются наиболее часто встречающейся патологией среди больных гастроэнтерологического профиля [1].
В соответствии с Римскими критериями IV пересмотра в данную группу заболеваний относят синдром раздраженного кишечника (СРК), функциональный запор, функциональную диарею, функциональное абдоминальное вздутие, неспецифические функциональные расстройства кишечника и опиоид-индуцированный запор [2].
По Римским критериям IV, синдром раздраженного кишечника (СРК, или irritable bowel syndrome — IBS) — это функциональное расстройство кишечника, проявляющееся рецидивирующими болями в животе, которые возникают по меньшей мере 1 раз в неделю, связаны с дефекацией, изменением частоты и формы стула. Эти признаки должны отмечаться у больного последние три месяца при общей продолжительности не менее шести месяцев [2–5].
Интерес к проблеме СРК связан в первую очередь с распространенностью заболевания [1, 6–10]. В среднем она составляет 20%, варьируясь в различных популяциях от 9 до 48%, что связано, очевидно, с использованием разных диагностических критериев, с подходами к выбору популяции, включением или исключением сопутствующих расстройств, а также с расовыми, культурными, социально-экономическими особенностями, доступностью медицинской помощи [11].
СРК — болезнь индустриально развитых стран, мегаполисов и столиц, с преобладанием среди лиц женского пола, а также среди работников интеллектуального труда, управляющих различного уровня и творческой интеллигенции, однако в последние годы данная тенденция неоднозначна [12]. Распростра-
ненность СРК растет в развивающихся странах, что связано с ростом дохода населения, повышением доступности здравоохранения, ускорением ритма жизни, изменением пищевых привычек [2].
В России крупных эпидемиологических исследований по СРК в последние годы не проводилось. По данным эпидемиологического обследования трудоспособных граждан Москвы 2016 г., распространенность СРК составляет 25,8% [13], что согласуется с европейскими показателями.
Для СРК характерен эпидемиологический «феномен айсберга» [1, 2, 8, 10], свидетельствующий, что распространенность СРК-пациентов значительно ниже, чем лиц с симптомами, относящимися к СРК.
От 10 до 70% (по некоторым данным, до 90%) пациентов, получив однажды консультацию врача, не обращаются больше за медицинской помощью. Такие лица именуются в англоязычной литературе nonconsulters (непациенты) [2, 14].
Лиц, часто обращающихся к врачу по поводу СРК (consulters, СРК-пациенты), в странах Европы от 10 до 50%, в США 30%, что коррелирует не только с выраженностью симптомов, но и с высоким уровнем ощущения боли, тревожностью, чередой психотравмирующих ситуаций и снижением качества жизни. Пациенты, обращающиеся к врачам разных специальностей, неоднократно подвергаются инвазивным диагностическим процедурам и попадают в контингент «трудных больных» [2, 14, 15].
Вероятность оказаться «СРК-пациентом» определяется как количеством симптомов, так и психосоциальными детерминантами [2]. По данным И. В. Ма-ева и соавт. (2016), более половины СРК-пациентов (55%) впервые обращаются к врачу общей практики, 25% к гастроэнтерологу, 15% к психиатру, 5% к врачам других специальностей (гинеколог, хирург, эндокринолог). От того, к какому специалисту попадет пациент, во многом зависит исход его лечения [2].
СРК преобладает в возрастной группе до 35 лет и имеет персистирующее течение с угасанием и возобновлением симптомов во времени [1, 2, 6, 8, 16].
Требуется тщательная дифференциальная диагностика СРК с другими состояниями. Появление первых симптомов у лиц старше 50 лет ставит диагноз под сомнение и требует исключения органического заболевания [1, 2, 8, 10, 17, 18].
Несмотря на то что при СРК отсутствует риск развития более тяжелых органических заболеваний (рак толстой кишки, неспецифический язвенный колит), болезнь не прогрессирует с течением времени, у пациентов наблюдается выраженное ограничение трудоспособности, а качество их жизни сравнимо с таковым при депрессии [1, 14].
СРК — спутник других функциональных расстройств (фибромиалгия, синдром хронической усталости, синдром хронической боли в спине, хронической тазовой и головной боли и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава) [1, 2, 4, 5, 10].
Термин «синдром перекреста функциональных нарушений» утвержден в Римских критериях IV пересмотра и определяется как синхронное течение нескольких функциональных состояний либо переход одного в другое. Подчеркивается, что у пациентов с исходно низким общим качеством жизни и повышенным уровнем жизненных стрессоров вероятность возникновения синдрома перекреста существенно выше [15].
Патогенез СРК сложен, и механизмы его различны [19]. Популярна гипотеза о роли висцеральной гиперчувствительности, о нарушениях по оси «головной мозг — ЖКТ» при СРК, и само заболевание рассматривается как биопсихосоциальное [20] .
В настоящее время среди звеньев патогенеза синдрома значительное место отводится влиянию генетической предрасположенности, социально-экономического статуса, возможности формирования заболевания у ребенка родителями, страдающими СРК, продолжают изучаться изменения в нейроэндокринной системе (ось «головной мозг — ЖКТ»), low-grade воспаление. Не теряют актуальности психологические аспекты, концепция постинфекционного СРК, дисбаланс микробиоты и факторы питания [2].
Многообразие патофизиологических механизмов обусловливает сложность курации пациентов [2] .
В последние годы активно обсуждается проблема изменений состава кишечного микробиома при СРК. Роль микроорганизмов особенно подчеркивается в развитии постинфекционного СРК (ПИ-СРК) [2, 8, 21]. Еще в ХХ в. было обнаружено, что у 24-32% пациентов, перенесших острые кишечные инфекции (ОКИ), в течение месяца развивался симптомоком-плекс раздраженного кишечника [6, 17, 22].
По современным данным, перенесенные инфекционные гастроэнтериты повышают риск развития СРК в 7–11 раз [21, 23]. Риск развития ПИ-СРК выше при длительности острой диареи более 1 недели, наличии боли в животе, потери веса, рвоты и крови в кале во время ОКИ. Неблагоприятными факторами являются также женский пол, молодой возраст (до 30 лет), длительная антибиотрикотерапия [6, 17, 24, 25].
В случае постинфекционного СРК рвота и лихорадка купируются в течение нескольких дней по мере разрешения инфекции, однако боль, вздутие живота и нарушения стула (преимущественно диарея) сохраняются .
Среди причин сохранения симптомов, помимо непосредственного влияния возбудителя ОКИ, имеют значение нарушения баланса кишечной микрофлоры. Меняются видовой, количественный состав индигенной флоры и метаболическая активность микроорганизмов [2, 8, 16, 26] .
Влияние микробиоты ЖКТ на возникновение СРК подтверждают несколько фактов. Во-первых, имеются данные о повышении распространенности СРК на фоне широкого применения антиботиков и о позитивном влиянии пробиотиков на симптомы заболевания. Во-вторых, отмечены видовые различия в микробиоме здоровых добровольцев и пациентов с СРК [2].
В частности, при СРК наблюдается меньшее разнообразие и выраженная нестабильность состава кишечного микробиома [26–28].
В литературе представлены результаты колонизации стерильных лабораторных мышей кишечной микробиотой пациентов с диарейным вариантом СРК. У животных отмечалось ускорение транзита по ЖКТ и нарушение проницаемости кишечной стенки. В то же время у мышей, колонизированных кишечной микробиотой здоровых лиц, указанных изменений не обнаружили [27, 29].
Предполагается ассоциация синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) и СРК [8, 16].
-
E. Pyleris и соавт. при исследовании аспирата содержимого нисходящей части двенадцатиперстной кишки у пациентов с подтвержденным СРК обнаружили СИБР в 45,5% случаев, а у здоровых добровольцев в 12,5% [30].
В дуоденальном содержимом пациентов с СРК обнаружены различные микрооргаизмы: Escherichia coli (12,7%), Enterococcus spp (10,9%), другие энтеробактерии (18,2%); в контрольной группе соответственно 3,1; 6,1 и 6,1% (р<0.0001) Выраженность СИБР коррелирует с длительностью анамнеза СРК [8, 30].
Изменения микрофлоры толстой кишки выражаются в преобладании условно-патогенных микробов и их ассоциаций (стафилококки, протей, дрожжеподобные грибы, эшерихии, клебсиеллы, синегнойная палочка и др.), возрастании количества анаэробных организмов, таких как Clostridium, увеличении количества бактерий типа Firmicutes, главным образом Clostridium группы XIVa и Ruminococcaceae. По литературным данным, бактерии типа Firmicutes являются источником сериновых протеаз, играющих определенную роль в патогенезе СРК [27, 28].
Кроме того, зарегистрирована недостаточность Lactobacillus и Bifidumbacterium, снижение количества бактерий типа Bacteroides у пациентов с СРК в сравнении со здоровыми [27]. В то же время в одном исследовании у больных с СРК зафиксировано увеличение числа Lactobacillus [31] .
Предполагается, что в результате жизнедеятельности избыточного количества бактерий в кишке могут образовываться и накапливаться метаболиты, свободные желчные кислоты. Следствием этого становятся расстройства двигательной, секреторной, пищеварительной функций кишки, нарушение гидролиза и всасывания питательных веществ, а также токсическое влияние на эпителиоциты кишечника. Таким образом, кишечный химус приобретает агрессивные свойства, что ассоциируется с возникновением симптомов СРК.
В литературных источниках указано, что при СРК увеличено количество бактерий-продуцентов водорода, углекислого газа (например, бактерий рода
Dorea), провоцирующих возникновение абдоминальной боли и метеоризма [27, 32, 33] .
В литературе отмечено несколько факторов, неразрывно связанных с нарушениями кишечного микробиома, в частности изменение экспрессии сигнальных рецепторов, ответственных за взаимодействие организма с бактериальными клетками, и нарушение кишечной проницаемости за счет изменения функции плотных контактов между эпителиоцитами [8, 34, 35].
Сигнальными являются, в частности, Toll-подобные рецепторы клеточной мембраны и Nod-подобные рецепторы цитоплазмы колоноцитов, способные распознавать структуры микроорганизмов и активировать клеточный иммунный ответ. Экспрессия указанных рецепторов (TLR-2 и TLR-4 типов) у лиц с СРК увеличена [2, 8]. Экспрессия белков плотных межклеточных контактов, т.е. окклюдинов (occludin) и клаудинов (claudin-1), снижена, вследствие чего бактериальные клетки и другие вещества, находящиеся в просвете кишки, могут свободно проникать через эпителиальный слой [8, 20, 36].
Описана взаимосвязь экспрессии TLR с развитием депрессии при СРК. Так, показано, что TLR4 является независимым фактором риска, связанным с тяжестью депрессии. Это подтверждает тот факт, что по мере уменьшения депрессивных симптомов на фоне приема антидепрессантов снижалась экспрессия TLR1, TLR2, TLR4 и TLR6. Уровень мРНК TLR2 и TLR4 у пациентов, имеющих СРК и депрессивное расстройство, был выше, чем в контрольной группе, что подтверждает роль TLR и в реакции воспаления при СРК, и развитии депрессии [34, 35, 37].
Интерес к изучению Toll-подобных рецепторов сохраняется в настоящее время и обусловлен не только их способностью детерминировать индивидуальный иммунный ответ на бактериальную инфекцию, но и потенцировать воспалительные изменения стенки кишки.
Усиление экспрессии генов сигнальных рецепторов приводит к увеличению площади взаимодействия слизистой оболочки кишки с компонентами бактериальных клеток, что, в свою очередь, располагает к гиперпродукции провоспалительных цитокинов, выбросу биологически активных веществ (гистамин, простагландины, лейкотриены, фактор активации тромбоцитов и др.). Таким образом, нарушение проницаемости кишечной стенки в сочетании с изменениями качественного и количественного состава микрофлоры приводит к формированию воспалительных изменений в кишке [2, 8, 20].
Активно обсуждается роль «воспаления низкой степени активности» (Low-grade mucosalinflammation) в слизистой оболочке кишки у части больных СРК [2, 8, 19, 32]. Макроскопически кишка интактна. Воспаление выражается в морфологических изменениях эпителия (умеренно выраженный отек слизистой оболочки, увеличение диаметра капилляров, укорочение и расширение крипт, повышенное содержание в них слизи), а также в появлении инфильтрата, состоящего преимущественно из макрофагов, лимфоцитов, моноцитов, плазматических и тучных клеток, иногда с примесью эозинофилов. Наличие изменений в слизистой оболочке кишечника ассоциируется со снижением пролиферативной активности, увеличением апоптоза эпителиоцитов [8, 9, 10, 16, 38, 39] . Кроме того, воспаление может персистировать не только в слизистой оболочке толстой кишки, но и в лимфатических узлах [8, 10, 39].
-
А. М. Осадчук и соавт. (2014) в ходе исследования биоптатов толстой кишки у лиц с СРК установили, что у 20% пациентов обнаруживаются гистологические признаки поражения слизистой оболочки толстой кишки, выражающееся в увеличении объемной доли железистой ткани, дистрофических, атрофических изменениях, утолщении, разрыхлении и лейкоцитарной инфильтрации базальной мембраны [10, 39]. Предполагают, что персистенция воспаления в слизистой оболочке толстой кишки более шести месяцев у больных с симптомами СРК становится первым признаком язвенного колита легкого течения [10]. Причины формирования воспалительных изменений в кишке окончательно не выяснены.
При изучении механизмов поддержания Low-grade воспаления в слизистой оболочке толстой кишки отмечена значительная роль гиперплазии и гиперфункции тучных клеток в данном процессе, так как их число коррелирует с выраженностью клинических проявлений СРК [8, 10, 19, 32]. Показано, что дегрануляция тучных клеток, приводящая к выделению биологически активных веществ (лейкотриены, триптаза, гепарин, простагландины), стимулирует дифференцировку Т-клеток в функциональные эффекторные клетки [8, 32]. Очевидно, поэтому у пациентов с СРК увеличено число CD3+ T-клеток, CD8+ Т-клеток не только в кишке, но и в периферической крови, что, в свою очередь, поддерживает минимальное кишечное воспаление [8, 9, 13, 32].
Весьма актуальна концепция цитокинового дисбаланса, так как при СРК обнаружено снижение экспрессии антивоспалительных и повышение экспрессии провоспалительных цитокинов, а также С-реактивного белка в кишечной стенке [8, 10, 16, 36]. Подчеркивается, что указанные изменения более характерны для СРК с диареей и практически не относятся к СРК с запором [32].
В то же время результаты изучения цитокинового уровня периферической крови противоречивы. Большинство литературных источников указывает на повышение уровня сывороточного ИЛ-1b, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-альфа, снижение уровня ИЛ-10 [8, 10, 36] . Некоторые исследователи обнаружили нормальное содержание ФНО-альфа, ИЛ-6 и ИЛ-10 в крови пациентов. При этом корреляции между содержанием цитокинов в кишечной стенке и периферической крови не прослеживается [8].
Не исключена роль генетической предрасположенности в развитии цитокинового дисбаланса (полиморфизм генов цитокинов). При СРК обнаружен полиморфизм генов ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-10 [4]. В частности, экспрессия генов ФНО-α и ИЛ-6 повышена, а ИЛ-10 снижена в сравнении со здоровыми людьми [24].
Интересно отметить, что полиморфизм IL-1a ассоциирован с атрофией слизистой оболочки кишечника и развитием тревожного синдрома у больных СРК [40] . В новейших публикациях предлагается даже учитывать генотип 2R/2R IL1RA в качестве маркера атрофических изменений слизистой оболочки кишки при СРК [41].
Кроме того, установлена ассоциация аллеля 2R IL1RA и генотипа WM TLR4 (позиция 399) с тревожным синдромом при СРК.
Отмечена связь генов цитокинов и депрессивного синдрома при СРК: у данной категории больных повышена частота встречаемости генотипа CA IL10592 [41].
Среди генов цитокинов установлены маркеры предрасположенности к СРК, зависящие от пола. Например, ген +3953 SNP IL-1β повышает риск возникновения СРК у женщин.
У мужчин с СРК выявлены различия в частотах встречаемости аллелей и генотипов IL-1Ra и гомозиготного генотипа по аллелю 308 A/A TNF-α. Наличие гетерозиготого генотипа 863C/A TNF-α, напротив, обладает протективной функцией в отношении СРК [40] .
Кроме того, гены TNF-α способны влиять на клиническую картину СРК. Например, SNP863 C/A TNFa: при смешанном варианте СРК повышена частота встречаемости генотипа CС, при СРК с запором — АА, с диареей — СА [41].
Наряду с описанным полиморфизмом генов цитокинов обнаружены полиморфизмы генов, кодирующих альфа2-адренорецепторы (АDRA2A, АDRA2С) и способствующих, согласно научным данным, расстройствам моторики кишки за счет нарушения распределения норадреналина .
Отмечен также генетический полиморфизм g-протеина, воздействующего на нервную регуляцию на уровне кишки и ЦНС [10].
Генетические факторы участвуют и в других аспектах патогенеза СРК. В частности, нарушения экспрессии белков плотных клеточных контактов и сигнальных рецепторов генетически детерминированы [2, 8, 20, 32, 42].
Е. В. Семенова и А. В. Иванов в ходе наблюдения 94 пациентов с СРК проанализировали частоту встречаемости полиморфных вариантов гена TLR2Arg-753Gln G>A (rs5743708) и гена TLR4Asp299Gly A>G (rs 4986790) [42]. Исследователи пришли к выводу, что предрасположенность к СРК имеют носители гомозиготного генотипа по нормальному аллелю GG полиморфизма TLR2Arg753Gln G>A (rs5743708) и носители мутантного аллеля G полиморфизма TL-R4Asp299Gly A>G (rs4986790). При этом носительство мутантного аллеля А Arg753Gln гена TLR2 обладает протективными свойствами в отношении СРК [42].
Для подтверждения роли генетических факторов в патогенезе СРК приведем данные исследований, демонстрирующих более высокую конкордантность в развитии СРК у однояйцевых близнецов (33%), чем у разнояйцевых (13%) [10, 19, 43]. Однако СРК у родителей оказался более сильным предиктором развития заболевания, чем наличие монозиготного близнеца с СРК [19].
Стоит отметить, что генетические аспекты СРК на сегодняшний день изучены недостаточно. В частности, актуальным представляется определение полиморфизма гена СОМТ, ответственного за когнитивные функции, а его полиморфизм связывают с возникновением СРК на фоне различных психических расстройств [44].
Наряду с перечисленными аспектами патогенеза при СРК представляет интерес функциональное состояние компонентов диффузной эндокринной системы ЖКТ.
При различных вариантах СРК отмечены разнонаправленные морфологические изменения диффузной нейроэндокринной системы. Так, при СРК с запором возрастают количество и функциональная активность всей популяции энтерохромаффинных клеток, а также соматостатин- и серотонинпродуци-рующих апудоцитов, при этом число и функциональная активность ВИП- и мотилинпродуцирующих клеток, напротив, снижаются [10, 39].
У лиц, страдающих СРК с диареей, возрастание общей популяции апудоцитов сочетается с гиперплазией мотилин-, серотонин-, мелатонин-, ВИП-продуцирующих клеток и гипоплазией клеток, продуцирующих соматостатин [10, 39, 45].
Изучение процессов клеточного обновления при СРК показало, что при СРК-з одновременно возрастает активность апоптотических и пролиферативных процессов в кишке. Таким образом, атрофия слизистой толстой кишки развиваются редко. При СРК-д пролиферативная активность клеток, напротив, резко снижена на фоне активации процесса апоптоза, что ассоциировано с частым возникновением воспаления и атрофии СОТК.
Морфологические изменения диффузной эндокринной системы и связанные с ними нарушения процессов клеточного обновления в кишке существуют даже в период ремиссии СРК, обеспечивая сохранение резидуальной клинической симптоматики и условия для возникновения и прогрессирования атрофии, воспаления [10, 39].
Гиперплазия мотилин- и ВИП-продуцирующих клеток оказывает отрицательное влияние на психологический компонент здоровья пациентов с СРК-д, а гиперплазия соматостатинпродуцирующих коло-ноцитов в сочетании с гипоплазией клеток, продуцирующих мотилин, ухудшает психологический компонент здоровья у лиц с СРК- з [10].
Определив содержание некоторых нейромедиаторов в сыворотке крови пациентов, исследователи отметили достоверное повышение субстанции Р и снижение серотонина, мелатонина независимо от варианта течения заболевания. Динамику указанных показателей предложено использовать для оценки эффективности лечения [46, 47]. Серотонин, взаимодействуя с интрамуральными нервными сплетениями толстой кишки, изменяет ее тонус, перистальтику и секрецию, а также усугубляет тревогу и депрессию. Агонисты 5-НТ4-рецепторов серотонина усиливают моторную активность толстой кишки, а антагонисты 5-НТ3-рецепторов серотонина угнетают ее [10, 25, 45].
Отмечается ассоциация полиморфизма генов рецептов серотонина с проявлениями СРК-д и изменением эффекта лекарственных препаратов [20, 24, 32]. Кроме того, установлена прямая связь между степенью снижения уровня мелатонина и серотонина в крови и выраженностью психических расстройств у пациентов с СРК. [20].
Обсуждается роль эндогенных опиоидов в патогенезе СРК, в частности плазменного Р-эндорфина, высокое и низкое содержание которого в крови чаще обнаруживаются у лиц с СРК, чем у здоровых.
К эффектам эндорфинов относят анальгетический, репаративный, цитопротективный, а также отрицательное влияние на моторику кишки, участие в формировании эмоциональных реакций и др., поэтому интересным и перспективным представляется изучение содержания колоноцитов, продуцирующих эндорфин, в том числе в связи с клинико-анамнестическими, психологическими данными и вариантом течения заболевания. Заслуживает внимания и состояние колоноцитов, продуцирующих сиртуин-1, учитывая его способность запускать антибактериальный каскад при хронических инфекциях ЖКТ и регулировать колонизационную резистентность [48].
В настоящее время актуальна гипотеза висцеральной гиперчувствительности, т.е. снижение порога восприятия боли либо более интенсивное ее ощущение, развивающееся в ответ на механические стимулы и коррелирующее с интенсивностью симптомов заболевания. [2, 49, 50, 51]. Проведены исследования, демонстрирующие роль центральных механизмов висцеральной гиперчувствительности у лиц с СРК [2, 14]. Обнаружены особенности центральной (в т.ч. эмоциональной, когнитивной) обработки афферентного сигнала, поступившего от кишки [32]. Высказано мнение о центральной антиноцицептивной дисфункции, т.е. нарушении нисходящего подавления боли [2, 14]. Установлено, что некоторые эмоции (например, гнев), способны повышать висцеральную чувствительность, снижая порог восприятия боли.
В патогенезе СРК важная роль принадлежит психоэмоциональным нарушениям. Обнаруженные явления, определяемые как расстройства оси «головной мозг — кишечник» (brain — gut axis). Акцентируется внимание на психосоматической концепции патогенеза СРК [20, 52–54].
В этой концепции ведущая роль в этиологии СРК отводится психоэмоциональному и психосоциальному стрессу, вызывающему развитие тревожно-депрессивного синдрома, а также указывается на неустойчивость структур ЦНС к психотравмирующим воздействиям [20] . Данной концепции патогенеза СРК уделено значительное внимание в литературе, что подтверждает ее актуальность и жизнеспособность. Очевидно, что психологические факторы обусловливают длительную персистенцию симптомов, влияют на субъективную оценку их тяжести, на частоту обращений за медицинской помощью и снижают качество жизни пациентов. Поэтому СРК принято относить к категории «органных неврозов» [1, 55–58].
Обобщив литературные данные, можно отметить, что у лиц, имеющих наследственные предпосылки и развивающихся в определенных социальных условиях, складываются некоторые характерологические черты, обусловливающие предрасположенность к СРК. Так, в семьях пациентов с СРК частота СРК-подобных симптомов у родственников втрое выше, чем среди лиц, не страдающих данным заболеванием.
Имеют значение не только генетические факторы, но и методика воспитания в семье [10, 19, 44, 52, 54, 59]. В многочисленных исследованиях отмечен определенный стиль жизни семей, из которых происходили лица с СРК. Указано, что пациенты воспитывались в условиях внутрисемейных конфликтов, борьбы за лидерство, гиперопеки, жестких наказаний, морализаторства, подавления инициативы, следствием чего явилось затруднение социальной адаптации, неуверенность, потребность в признании и поощрении, непереносимость критики, недостаточная способность распознавать и выражать собственные чувства (алекситимия), а также низкая резистентность к стрессам [20, 59].
Данная особенность проявляется в условиях негативных социальных воздействий (смерть или развод родителей и раннее сиротство, сексуальные домогательства, тяжелая болезнь близких родственников, в т.ч. алкоголизм и наркомания, разрушение семьи, трудности в воспитании детей, конфликты в трудовом коллективе, несоответствие полученного образования и занимаемой должности, потеря работы, низкий уровень доходов, смена места жительства, общественные потрясения) и слабой социальной поддержки. Очевидно, что указанные обстоятельства ассоциировались с угрозой неудачи, отвержения, унижения, потери социального престижа, разрыва значимых социальных связей. В силу психосоматической предрасположенности переживания соматизировались на уровне толстой кишки и проявлялись, по мнению ученых, нарушением висцеральной чувствительности и моторики кишечника, формированием симптомокомплекса раздраженного кишечника [1, 14, 19, 20, 49, 59].
Очевидно, что повышенная восприимчивость к средовым воздействиям может быть связана с определенными личностными особенностями и поведенческими паттернами.
Изучение личностных особенностей продемонстрировало склонность к истероидным реакциям, агрессивность, канцерофобию [16, 53, 54].
Имеются работы, демонстрирующие у лиц с СРК пограничный тип личности, занимающий промежуточное положение между невротическим и психотическим [8].
По результатам психологического тестирования у лиц с СРК был диагностирован ряд эмоционально нестабильных акцентуаций характера по К. Леонгарду: эмотивная, проявляющаяся мягкосердечием и впечатлительностью; демонстративная, выражающаяся в драматизации проблем и фиксации на болезненных ощущениях; ригидная, связанная с упрямством и бескомпромиссностью; а также циклоидная, отличающаяся неустойчивостью настроения и склонностью к депрессивным реакциям [14, 60].
Кроме того, обнаружена тесная связь между симптоматикой СРК и явлениями эмоционального дистресса (тревогой и депрессией) [14]. Очевидно, что именно психологический дистресс, а не СРК сам по себе заставляет пациента обратиться за помощью к врачу, т.е. у эмоционально ранимых людей симптомы СРК создают социальную платформу для обращения за медицинской помощью [2, 49, 51].
В некоторых исследованиях отмечается, что психиатрическая коморбидность повышает частоту обращений к врачу при СРК и является предиктором рефрактерного течения болезни. Среди сопутствующих заболеваний у таких пациентов обнаружили панические и генерализованные тревожные расстройства, фобические, посттравматические стрессовые, ипохондрические, сочетанные тревожно-депрессивные (в т.ч. маскированная депрессия) расстройства [1, 14, 20, 61].
Интересно отметить, что у пациентов с диареей преобладает тревожно-фобический синдром, в то время как лица с запором более склонны к депрессивным, ипохондрическим и дисморфофобическим проявлениям. Вариант течения с чередованием диареи и запоров характеризуется сочетанной тревожной и депрессивной симптоматикой. При СРК с диареей психопатологическая симптоматика чаще всего носит вторичный и преимущественно невротический характер. При СРК с запором психопатологические изменения расцениваются как первичные [8, 13].
По наблюдениям А. И. Мартынова и соавт. (2010), особенностью депрессивных состояний при СРК является редуцированность содержательного комплекса (идеи самообвинения, суицидальные мысли). В клинической картине преобладают нарушения аппетита, потеря веса, инсомния, патологический циркадный ритм, ипохондрическая фиксация на болезненных ощущениях в животе, абдоминалгии, запоры. [1]
Таким образом, симптомокомплекс соматического заболевания оттесняет и маскирует психоэмоциональные проявления, затрудняя диагностику и подбор терапии. По этой причине ряд исследователей склонен даже рассматривать СРК как «маску» психического заболевания (чаще всего депрессии) [12, 14].
В исследовании Е. Н. Юрмановой (2008) показано, что высокий уровень тревоги и депрессии, неблагоприятные социально-бытовые условия способствуют неперывно-рецидивирующему течению СРК. В то же время от 50 до 86% пациентов, страдающих СРК, не имеют психиатрической коморбидности и реже обращаются к врачу [13, 19].
Необходимо учитывать также, что психологическая симптоматика может быть вторичной по отношению к соматическим проявлениям, особенно при частых рецидивах болезни и разочаровании в лечении. Данный факт упоминается в многочисленных работах [8, 12, 13, 62–65].
Обнаружено, что рецидивирующие соматические симптомы провоцируют усиление тревоги и депрессии, возникновение навязчивых страхов и ритуалов, приводят к социальной дезадаптации и изоляции [12, 16]. Качество жизни пациентов с СРК сопоставимо, как известно, с тяжелыми органическими заболеваниями и зарагивает все сферы жизни, приводит к сокращению объема выполняемой работы за счет ухудшения физического, психологического самочувствия [1, 14, 63, 66].
Данные о психологических особенностях лиц с СРК многочисленны, но достаточно противоречивы. Это, очевидно, связано с использованием различных методик, психологических опросников, неоднородностью исследуемых групп пациентов (в условиях стационара или амбулатории, с различной психической и соматической коморбидностью, которая не всегда учитывается).
Весьма интересны исследования, посвященные дисфорическим расстройствам у лиц с СРК (гнев, напряжение, конфликтность, враждебность, раздражительность), которые протекают латентно и часто не могут быть диагностированы. В литературе данному вопросу уделяется сравнительно мало внимания, а между тем дисфория может иметь патогенетическое значение при СРК или носить вторичный характер по отношению к соматическим симптомам. Особенностью пациентов с СРК является высокая частота переживания гнева, раздражения в различных стрессогенных ситуациях, хронизациия данных эмоций в сочетании с подавлением их внешних проявлений (латентная дисфория). Установлено также, что гнев снижает порог болевого восприятия при СРК, являясь триггером для возникновения соматических симптомов. Ввиду нераспознанности данного расстройства дисфория не становится терапевтической мишенью в ходе лечения [64].
Таким образом, механизм развития СРК представляется следующим. Заболевание возникает у предрасположенных лиц, в определенных социальных условиях (социальные потрясения при отсутствии поддержки в значимом окружении), а также после перенесенных кишечных инфекций в условиях генетически детерминированного изменения проницаемости стенки кишки (изменение экспрессии белков плотных межклеточных контактов) в сочетании с дисбалансом кишечной микрофлоры и цитокинов. Развивающееся в данных условиях воспаление минимальной активности в связи с висцеральной гиперчувствительностью и дисфункцией антино-цицептивной системы, а также за счет генетически детерминированных личностных акцентуаций становится основой сохранения кишечных симптомов, которые часто могут сочетаться с расстройствами психического спектра (и маскировать их) и потому рассматриваются как психосоматические.
Список литературы Синдром раздраженного кишечника: эпидемиологические и патогенетические аспекты
- Мартынов A.M., Шилов A.M., Макарова И.А. Синдром раздраженного кишечника: патогенетические механизмы. Лечащий врач 2010; (5)
- Маев И. В., Черёмушкин С. В., Кучерявый Ю.А. Синдром раздраженного кишечника: Римские критерии IV О роли висцеральной гиперчувствительности и способах ее коррекции. М.: Прима Принт, 2016; 64 с.
- Drossman DA, Chang L, et al. Rome IV, functional gastrointestinal disorders, disorders of gut-brain interaction. Fourth, The Rome Foundation, Raleigh (NC), 2016
- Шептулин A. A., Визе-Хрипунова M.A. Римские критерии синдрома раздраженного кишечника IV пересмотра: есть ли принципиальные изменения? Российский журнал гастроэнтерологии, гепато-логии, колопроктологии 2016; 26 (5): 99-103
- Силивончик H.H., Пиманов С. И. Синдром раздраженного кишечника (по материалам Римского IV консенсуса по функциональным пищеварительным расстройствам). Лечебное дело 2017; 3 (55): 23-29
- Агафонова H.A. Постинфекционный синдром раздраженного кишечника. М.: Форте принт 2013; 52 с.
- Ballou SK, Keefer L. Multicultural considerations in the diagnosis and management of irritable bowel syndrome: a selective summary. Eur J Gastroenterol Hepatol 2013; (25): 1127
- Ивашкин В. Т., Полуэктова Е.А. Синдром раздраженного кишечника: патофизиологические и клинические аспекты проблемы. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 2015; (1): 4-16
- Krogsgaard LR, Engsbro AL, Bytzer P. The epidemiology of irritable bowel syndrome in Denmark: A population-based survey in adults Scand J Gastroenterol 2013; (48): 523
- Осадчук M.A., Бурдина В. О. Новые патогенетические подходы к терапии синдрома раздраженного кишечника, основанные на морфофунк-циональных особенностях данной патологии. Практическая медицина 2014; 1 (77): 12-20
- Fried М, Gwee КА, Khalif I, et al. Irritable Bowel Syndrome: a Global Perspective. World Gastroenterology Organization 2015; (9): 3-26
- Шиланкова С. О. Сочетание соматического и психического компонента при функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Научное обозрение. Медицинские науки 2016; (4): 116-119
- Ивашкин В. Т., Шульпекова Ю.О. Нервные механизмы болевой чувствительности. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 2002; 12 (4): 16-21
- Турко ТВ., Maхов В. М. Синдром раздраженного кишечника. Русский медицинский журнал 2006; (1): 52
- Буторова Л. И., Токмулина Г. М., Плавник Т. Э. и др. Римские критерии IV синдрома раздраженного кишечника: эволюция взглядов на патогенез, диагностику и лечение. Лечащий врач 2017; (3)
- Немцов В. И. Синдром раздраженной кишки (СРК): современные представления об этиопато-генезе и лечении. Лечащий врач 2015; (6)
- Агафонова H.A., Попова E.B., Яковенко Э.П. и др. Роль кишечной микрофлоры в формировании синдрома раздраженного кишечника (СРК) и СРК-подобных нарушений: Вопросы терапии. Фарматека 2012; (2): 26-31
- Пантюхина А. С. Сравнительная оценка медикаментозного и немедикаментозного лечения при синдроме раздраженного кишечника: дис.... канд. мед. наук. Ижевск, 2017; 139 с.
- Плотникова Е.Ю., Краснова M.B., Баранова E. H. Синдром раздраженного кишечника -болезнь со многими неизвестными (некоторые терапевтические аспекты). Вестник Клуба Панкреатологов 2015; (2): 41-50
- Циммерман Я. С. Синдром раздраженной кишки: какова его истинная сущность? Клиническая медицина 2014; (7):19-28
- Kim HS, Lim JH, Park H, et al. Increased immunoendocrine cells in intestinal mucosa of postinfectious irritable bowel syndrome patients 3 years after acute Shigella infection-an observation in a small case control study. Yonsei Med2010; (J51): 45-51
- Яковенко Э.П., Иванов A.H., Агафонова H.A. и др. Нарушение нормального состава кишечных бактерий: клиническое значение и вопросы терапии. Русский медицинский журнал 2008; 10 (2): 41-46
- Фадеенко Г.Д., Чирва О. В. Синдром раздраженного кишечника и возможности его коррекции. Су-часна Гастроентеролопя 2013; 2 (70): 39-44
- Barkhordari Е, Rezaei N, Mahmoudi М, et al. T-helper 1, T-helper 2, and T-regulatory cytokines gene polymorphisms in irritable bowel syndrome. Inflammation 2010; (33): 281-286
- Козлова И. В. Синдром раздраженного кишечника: новые аспекты патогенеза, диагностики, прогнозирования течения. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатоло-гии, колопроктологии 2000; (3): 57-63
- Tyakht AV, Kostryukova ES, Popenko AS, et al. Human gut microbiota community structures in urban and rural populations in Russia. Nature Communications 2013; 4 (2469)
- Шептулина А.Ф., Ивашкин В. Т. Синдром раздраженного кишечника через призму кишечного микробиома. Российский журнал гастроэнтерологии, гепато-логии, колопроктологии 2016; 26 (6): 120-123
- Ткач СМ., Дорофеев А. Э., Руденко Н. Н. Дисбиоз и синдром избыточного бактериального роста при синдроме раздраженной кишки: коррекция клинических и микробиологических изменений при помощи Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Сучасна Гастроентеролопя 2016; 4 (90): 33-42
- De Palma G. Transfer of anxiety and gut dysfunction from IBS patients to gnotobiotic mice through microibota transplatation. CDDW2014; (3): 238
- Pyleris E, Giamarellos-Bourboulis EJ, Koussoulas B. Prevalence of small intestinal bacterial overgrowth in a greek cohort: relationship with irritable bowel syndrome. Gut 2010; (59): A 19
- Кучерявый Ю.А., Черёмушкин С. В., Маевская Е.А. и др. Взаимосвязь синдромов раздраженного кишечника и избыточного бактериального роста: есть ли она? Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 2014; (2): 5-14
- Бель-мер С. В. Иммунологические аспекты синдрома раздраженного кишечника. Лечащий врач 2016; (8)
- Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Синдром раздраженной кишки, ассоциированный с дисбактериозом. Consilium Medicum 2000; 2 (7)
- Cynthia KY Cheung, Justin CY Wu. Genetic polymorphism in pathogenesis of irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2014; 20 (47): 17693-8
- Valverde-Villegas JM, Santos BP, Machado MB, et al. G2848A and T-1237C polymorphisms of the TLR9 gene and susceptibility to inflammatory bowel disease in patients from southern Brazil. John Wiley & Sons Ltd Tissue Antigens 2014; (83): 190-2
- Курбатова А.А. Патогенетическое и клиническое значение системы цитокинов и клаудинов у больных с синдромом раздраженного кишечника: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2013; 25 с.
- Beutheu-Youmba S, Belmonte LE, et al. The expression of the tight junction proteins, claudin-1, occludin and ZO-1 is redused in the co-Ionic mucosa of patients with irritable bowel syndrome. Gut 2009; 59 (11): 5-57
- Cremon C, Gargano L, Morselli-Labate AM, et al. Mucosal immune activation in irritable bowel syndrome: gender-dependence and association with digestive symptoms. Am J Gastroenterol 2009; (104): 392-400
- Осадчук A.M., Осадчук M.A., Балашов А. В. и др. Патогенетические аспекты клинических вариантов синдрома раздраженного кишечника с позиций нарушения диффузной эндокринной системы и клеточного обновления колоноцитов. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 2008; (1): 38-44
- Сарсенбаева А. С, Иванова Е.Л., Бурмистрова А. Л. и др. Характер морфологических изменений слизистой оболочки толстого кишечника и генетический полиморфизм IL-1 Ra, IL-1 b, IL-4, TNF-a у больных с синдромом раздраженного кишечника. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2013; (8): 28-33
- Шарова И. А., Сташкевич Д.С, Евдокимов А. В. и др. Полиморфизм генов основных цитокинов и толл-подобного рецептора 4 и вариабельность течения синдрома раздраженного кишечника у русских Челябинской области. Научно-методический электронный журнал «Концепт» 2017; (39): 3241-5
- Семенова E.B., Иванов А. В. Роль одиночных нуклеотидных полиморфизмов ряда генов врожденного иммунитета в развитии синдрома раздраженного кишечника. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга 2017; (1): 30-41
- Самсонов А. А., Плотникова Е.Ю., Борщ M. В. Постинфекционный синдром раздраженного кишечника -особая форма функциональной кишечной патологии. Лечащий врач 2012; (7): 21-9
- Karling Р, Danielsson A, Wikgren М, Del-Favero J, et al. The Relationship between the Val158Met Catechol-oMethyltransferase (COMT) Polymorphism and Irritable Bowel Syndrome. PLoS ONE | www.plosone.org (18.12.2017)
- Козлова И.В., Мяли-на Ю.Н., Бадиева О. Е. Клинико-диагностическое значение содержания тканевых нейротрансмиттеров при функциональных и воспалительных заболеваниях кишечника. Молекулярная медицина 2015; (3): 8-13
- Гусакова E.B. Немедикаментозная коррекция функционального состояния больных с синдромом раздраженного кишечника: автореф. дис.... д-ра мед. наук. М., 2008; 47 с.
- Tpyбина H. В. Нарушения нейрогуморальной регуляции в патогенезе, клинике и диагностике функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта: автореф. дис.... канд. мед. наук. Волгоград, 2009; 25 с.
- Ярмыш H.B., Грозная Л.Н. Эндотелиальная дисфункция и ее регуляторные факторы. Вестник проблем биологии и медицины 2014; 3 (2): 37-43
- Drossman DA. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features, and Rome IV Gastroenterology 2016; 150 (6): 1262-79. USA
- Filipovic B, Forbes A, Tepes B. Current Approaches to the Functional Gastrointestinal Disorders. Gastroenterol Res Pract 2017; 2017: 4957154
- Lacy В E, Mearin F, Chang L, et al. Bowel Disorders Gastroenterology 2016; (150): 1393-1407. USA
- Бурулова О. E., Козлова И. В., Мялина Ю. Н. Синдром раздраженного кишечника как биопсихосоциальное заболевание (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2012; 8 (2): 232-23
- Козлова И. В., Мялина Ю.Н., Тихонова ТА. и др. Психологические особенности пациентов с функциональными и воспалительными заболеваниями кишечника. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (1): 80-85
- Kozlova IV, Myalina YuN, Tikhonova ТА, et al. Bowel diseases as a psychosomatic problem. In: European conference on innovations in technical and natural sciences. Vienna, 2014; p. 126-132
- Козлова И. В., Мялина Ю.Н., Тихонова ТА. и др. Клинико-лабораторные критерии в оценке эффективности терапии пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Лечащий врач 2016; (4): 125
- Козлова И.В., Пахомова А.Л. Современный пациент гастроэнтерологического профиля: штрихи к клиническому портрету. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 6 (118): 4-10
- Мялина Ю.Н., Козлова И.В., Тихонова ТА. и др. Терапия тревожных расстройств при синдроме раздраженного кишечника. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2014; 5 (105): 70а
- Тихонова ТА., Козлова И. В., Мялина Ю. Н. Некоторые показатели «внутренней картины болезни» у пациентов с заболеваниями толстой кишки. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2014; (2): 54а
- Ганзин И. В. Исследование генезиса психосоматического симптома при синдроме раздраженного кишечника. Клиническая психиатрия и психофармакотерапия 2015; 19(1): 26-33
- Гатаулина О. В., Белова И. И., Демина Е. И. и др. Девиации личности при синдроме раздраженного кишечника. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга 2011; (2-3): М17-18
- Козлова Ю.А. Синдром раздраженного кишечника: клиническое значение вегетативного статуса при рефрактерном течении заболевания: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2015; 25 с.
- Харченко H.B., Опанасюк Н.Д. Синдром раздраженного кишечника: механизмы развития и пути коррекции. Су-часна Гастроентеролопя 2014; 6 (80): 68-75
- Куглер Т. E. Качество жизни пациентов с функциональными гастроинтестинальными заболеваниями: есть ли различия? Лечебное дело 2015; 2 (42): 36-40
- Морозова M.A., Рупчев Г. E., Алексеев А. А. и др. Дисфорический спектр эмоциональных расстройств у больных с синдромом раздраженного кишечника. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 2017; 27 (1): 12-22
- Соломенцева ТА. Синдром раздраженного кишечника: Трудности в диагностике и лечении. Сучасна Гастроентеролопя 2016; 2 (88): 114-120
- Яковенко А. В., Иванов A. H., Прянишникова А. С. и др. Патогенетические подходы в лечении синдрома раздраженного кишечника. Лечащий врач 2011; (7).