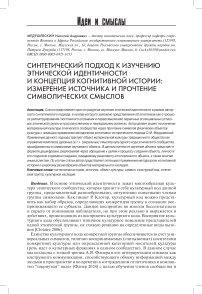Синтетический подход к изучению этнической идентичности и концепция когнитивной истории: измерение источника и прочтение символических смыслов
Автор: Медушевский Н.А.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет один из ракурсов изучения этнической идентичности в рамках авторского синтетического подхода, в основе которого заложено представление об этногенезе как о процессе реконструирования (постоянного осознания и переосмысления) первичных эссенциальных установок этнической группы в пространственном и темпоральном аспектах. Автор делает акцент на изучении материальной культуры этнического сообщества через прочтение символов физических объектов культуры с помощью применения методологии когнитивно-исторического подхода О.М. Медушевской. Применение данного подхода трактует объект материальной культуры традиционного общества как отражение комплекса духовных (в т.ч. сакральных) смыслов культурного кода этнического сообщества, зашифрованных в символизме изучаемого объекта. В данном контексте изучение объекта предстает в формате дешифровки, реализуемой через обращение к целям и процессу создания объекта, личности его создателя и времени создания, ожидаемому реципиенту изготовленного объекта, а также многим иным аспектам. По итогам статьи автор представляет потенциал применения методологии когнитивной истории к широкому разнообразию объектов материального наследия.
Когнитивная история, источник, объект культуры, символ, культурный код, этническая группа, культурное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/170211069
IDR: 170211069
Текст научной статьи Синтетический подход к изучению этнической идентичности и концепция когнитивной истории: измерение источника и прочтение символических смыслов
Введение. В основе этнической идентичности лежит многообразная культура этнического сообщества, которая хранит в себе культурный код данной группы, представленный разнообразными, интуитивно понятными членам группы символами. Как пишет Р. Клотар, культурный код можно представить как набор образов, определяющих конкретную группу в сознании воспринимающего ее субъекта. Данное восприятие во многом бессознательно и скрыто от понимания наблюдателя, но при этом реально и выражается в действиях, происходящих из восприятия культурного кода. Восприятие культурного кода обусловливает типичное культурное поведение представителей одной этнической группы, их схожую реакцию на определенные виды вызовов [Clotaire 2006].
Единство культурного кода конкретной группы обеспечивается за счет универсальных символов, типично воспринимаемых (считываемых) носителями конкретной культуры или определенной категорией носителей культуры (речь идет о культурных фракциях в едином сообществе). В данном случае мы согласны с точкой зрения А.Я. Флиера в его интерпретации символа как инструмента коммуникации, способствующего обмену информацией между людьми в пространстве и во времени в «отчужденном от источника и компактно “свернутом” виде» [Флиер 2024] с целью обучения членов сообщества и
«сопричастных» к культуре индивидов и «психологического принуждения» к правильному с точки зрения конкретной культуры социальному поведению [Флиер 2015].
Говоря о символах, следует в качестве их основной характеристики назвать их «типичность» в аспекте представления «свернутой» информации, что, однако, не сказывается на многообразии их форм, которые могут быть систематизированы. В систематизации Ч. Пирса символы, трактуемые как знаки, к примеру, делятся на «знаки-иконы», «знаки-индексы» и «знаки-символы» [Peirce 1994]. Ю.М. Лотман ввел разделение на «иконические» и «условные» знаки [Лотман 1973].
Изучение этнической идентичности требует от исследователя выявить многообразие данных символов и понять их значения при том, что многие из них зашифрованы в объектах материальной культуры и считываются носителями культуры автоматически и подсознательно, т.е. сами они далеко не всегда могут сказать, что в данном объекте зашифрован конкретный смысл или идея. Также существуют и скрытые смыслы, в принципе не предполагавшиеся автором объекта к широкому познанию. Вследствие этого актуализируется важность изучения как конкретных артефактов, так и условий, в которых они создаются и используются, т.е. быта, ритуалов, социальных практик и т.д. В данном аспекте исследовательский инструментарий может дать концепция когнитивной истории, которая однозначно постулирует, что «посредством созданного произведения человек “дает знать о себе другим людям”, способным воспринять эту информацию независимо от разделяющей их временной дистанции» [Сабенникова 2015].
Данный тезис позволяет трактовать как источник исторического знания практически любой объект культуры вне зависимости от времени его создания с опорой на смыслы, который объект несет в своем образе, форме, содержании, следах технологий, применявшихся при его создании, типичных или нетипичных характеристиках авторского стиля и т.п. Отметим, что объектом может выступить и конкретное действо, например обряд или ритуал, детально зафиксированный наблюдателем, который также предстает в виде единого комплексного источника.
Методология и историография. В основе данной работы лежит авторская (синтетическая) концепция трактовки этнической идентичности как явления, основанного на эссенциальных установках этнического сообщества, реконструируемых и актуализируемых представителями данного сообщества в процессе этногенеза [Медушевский 2025а; 2025б]. В числе данных установок мы выделяем в т.ч. традицию, которая имеет и материальное выражение в создании физических объектов (артефактов). Для их изучения и изучения системы традиций этнической группы в целом мы обращаемся к концепции когнитивной истории, предложенной О.М. Медушевской в целом ряде работ [Медушевская 2008; 2010; 2013]. Данная концепция, а точнее, исследовательский подход представляет научное видение истории через реализацию критического анализа информации, содержащейся в конкретном источнике, а также в множестве сходных источников, которые могут быть систематизированы и классифицированы не только и не столько по форме и очевидному содержанию, сколько по общности смыслов информационных посланий, которые они транслируют. Восприятие такого рода посланий исследователем возможно через анализ характеристик источника, связанных с его созданием, применением, оформлением и даже погребением, если объект, выступающий для исследователя источником, например, стал частью погребального обряда. Информация об источнике может получаться посредством различных специальных методов, но обобщение частных результатов данных методов производится неизменно на основании логики и эмпирического наблюдения.
Наряду со значением частного объекта анализа в рамках теории когнитивной истории также существует понятие макрообъекта исторической науки, который интерпретируется как общая совокупность интеллектуальных продуктов – результатов человеческой деятельности. Данный макрообъект, или общая совокупность, как и частный объект – артефакт, несет в себе информацию о многомерной цели своего создания, раскрытие которой фактически должно означать расшифровку культурного кода этнического сообщества, актуального для исследуемого периода, к которому относится совокупность объектов изучения, что подтверждается следующей цитатой: «Целью является познание людей во времени, человека как тотальной целостности его социальных, психологических, биологических и других свойств и прежде всего познание человеческой мысли» [Медушевский 2010]. Методология когнитивной истории раскрывается как в уже отмеченных работах О.М. Медушевской, так и в работах других авторов [Степанова, Шишкина 2024; Доманова 2023; Медушевский 2023; Сабенникова 2015; Ланской 2023].
Применение методологии источниковедения когнитивной истории к познанию символизма артефактов этнической культуры. Безусловно, прочтение информации по широкой совокупности физических источников, при всей информативности данного комплекса, требует решения проблемы сравнимости объектов, т.е. они должны быть аргументированы как типичные по виду, форме, источнику и времени происхождения. Решение проблемы сравнимости, в свою очередь, открывает возможность сопоставления кодов информации, заключенных в источниках конкретной выборки. Коды информации ориентируют исследователя на язык символов, который может быть «переведен» с применением методов семиотики, когнитивной лингвистики и ряда других источниковедческих дисциплин. В данной связи показательна работа О.М. Медушевской «Вещь в культуре: источниковедческий метод историкоантропологического исследования», где автор пишет о методологии системного изучения вещей. Вещь в данном контексте трактуется как «произведение материальной культуры общества в ее [вещи] разнообразных социальных функциях, которые она имела изначально или приобретала в процессе своего бытования у различных народов, в различные эпохи и в различной культурной среде» [Медушевская 2000]. Как отмечает О.М. Медушевская, вещь, изъятая из обихода, обладала разными функциями, судить о которых невозможно, только лишь изучая данный физический объект. Необходимо также проводить изучение материальных свойств вещи и ее социальных функций «с позиций системного подхода с привлечением других типов исторических источников – письменных, устных, изобразительных и т.д.» [Медушевская 2000]. В данной связи показателен подход Л. Февра, который констатировал необходимость расширения круга источников, которые должны включать не только традиционные – письменные – источники, но и источники других типов, традиционно являющиеся объектом изучения смежных дисциплин, например музеологии, археологии, лингвистики и др. [Февр 1991]. Также важен подход М. Блока, в котором он отмечает роль разнообразия источников, структурированных под цель их создания [Блок 1986].
Концепция когнитивной истории О.М. Медушевской значима в рамках изучения материальной культуры конкретного общества не только с точки зрения методологии, позволяющей расширить взгляд на этническую идентичность за счет изучения ее выражения в символах и смыслах новых типов источников, в т.ч. вещей/артефактов, относимых к культуре изучаемой этнической группы. Значение также имеют методы и методические системы исследования артефактов. В основе применения данных методов, о которых будет сказано ниже, лежит решение двух задач:
-
1) «обзор и характеристика основных видов источников, содержащих информацию о вещевых реалиях» [Медушевская 2000];
-
2) «разработка методов получения из них полной и надежной информации о создании и использовании вещей, материальных предметов в ту или иную эпоху» [Медушевская 2000].
Решение данных задач позволяет выявить место артефакта или комплекса артефактов в культуре сообщества и определить роль, которую артефакт играл в системе социального взаимодействия, каким был его статус и практика применения (с каким социальным поведением он был связан), какие существовали и существуют аналоги данного артефакта.
Способом получения информации об артефакте выступает его комплексный сущностный анализ, дополняемый анализом различного рода письменных и художественных источников, а также свидетельствами из устной традиции, при наличии таковой. В конечном итоге, комплексное изучение артефактов создает измерение «мира вещей» (в нашей трактовке – «мира познанных вещей»), которое дополняет другие типы (измерения) исторической информации.
Анализ вещи/артефакта как источника информации требует структурнофункционального подхода для реализации системного применения методов прикладных исследований. О.М. Медушевская предлагает алгоритм реализации такого подхода. Она отмечает, что на первом этапе анализа требуется определение места создания артефакта, выступающего источником, времени его создания и исторического (в нашей интерпретации – социокультурного) контекста. Далее производится конкретизация контекста создания – предпринимается попытка установления автора-создателя, уточняются обстоятельства создания, цель создания, практическое назначение (и вероятный реципиент изделия – наше дополнение).
Следующий этап – это характеристика источника. О.М. Медушевская в качестве такового рассматривает письменный источник, поэтому выделяет характеристику имеющихся текстов, способы фиксации текста, внешние особенности. В нашем случае, когда источником выступает не текст, а вещь, например реликвия, уместно будет изучить ее состав – материал, оформление, технологию изготовления, последовательность компоновки и т.д. вплоть до, например, определения региона происхождения материалов, входящих в состав компонентов, а также частных смыслов, которыми данные компоненты наделены сами по себе.
Третий этап связан с информацией, которой пользовался создатель артефакта при его создании, – чем он был вдохновлен, какую информацию пытался отразить, сохранив в образе артефакта. (В трактовке О.М. Медушевской – воспоминания, личные наблюдения, устные, письменные документы.)
В итоге исследователь обобщает полученную информацию и, оперируя знаниями об историческом контексте создания артефакта, фиксирует суждения по интерпретации источника и суждения о степени достоверности, оригинальности, физической полноты изучаемого источника. Как результат, исследователь получает комплексную характеристику изучаемого объекта, основываясь на которой может далее проводить детализированный анализ смыслового содержания источника.
Рассмотрение отдельных артефактов как источников информации об обществе, из которого они происходят, значительно расширяет пространство исследования, позволяет верифицировать письменные и эмпирические данные и дает дополнительную информацию о мировоззренческих, технологических, правовых, экономических и культурных особенностях изучаемого общества и исторического периода. Более того, применение данного подхода делает проницаемой границу между такими дисциплинами, как этнология, этнография, археология, музеология и др., что позволяет эффективно проводить комплексные междисциплинарные исследования. Также отметим, что полученные знания позволяют частично восстановить менталитет эпохи или слабо изученной этнической группы.
Заключение. Описанный метод, в нашей интерпретации, относится к сформулированной О.М. Медушевской комплексной парадигме гуманитарного познания [Медушевская 2006], которая представляет «доказательную реконструкцию психологических основ мотивации поведения индивида в прошлом на основе раскрытия информации исторических источников – всей совокупности интеллектуальных продуктов целенаправленной человеческой деятельности» [Сабенникова 2015]. Применение парадигмы гуманитарного познания позволяет применить комплексную методологию доказательных исторических исследований, категорировать намеренные и ненамеренные свидетельства исторических источников и обеспечить связь между историческим познанием и такими дисциплинами, как когнитивная психология, антропология (в т.ч. физическая), структурная лингвистика и др. [Сабенникова 2015]1.
Кроме того, представленный исследовательский подход предоставляет ценнейший ресурс для изучения архаичных обществ, где духовная культура превалирует над материальной, создание большинства предметов, вплоть до бытовой утвари, является результатом духовного осмысления и несет на себе отпечаток традиции и сакрального мировоззрения изготовителя, т.е. физический объект переполнен смыслами культуры, транслируемыми через элементы материального воплощения.
Несмотря на то что сам механизм прочтения смыслов, содержащихся в конкретном объекте, и их типологизация на более широкую группу аналогичных объектов хорошо изучена и, более того, широко применяется, например, в археологии, когда орнамент утвари позволяет сделать обобщение целой культуры, когнитивно-исторический подход определенно позволяет масштабировать подобное исследование, объединив изучение элементов создания объекта с многообразием смыслов, заложенных в него творцом, и в более широком плане – с историческим и культурным контекстом создания. Последний, в свою очередь, позволяет исследователю перейти на комплексное восприятие динамики этногенеза, включающей формирование историко-культурных паттернов, исторической памяти и исторического наследия.