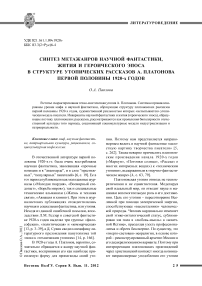Синтез метажанров научной фантастики, жития и героического эпоса в структуре утопических рассказов А. Платонова первой половины 1920-х годов
Бесплатный доступ
В статье охарактеризована техно-мистическая утопия А. Платонова. Системно проанализированы уровни мифа и научной фантастики, образующие структуру платоновских рассказов первой половины 1920-х годов, художественной реальностью которых «испытывается» утопическая модель писателя. Инварианты научной фантастики и жития (героического эпоса), образующие поэтику платоновских рассказов, рассматриваются как проявления биполярности отечественной культуры того периода, соединившей социокультурные модели индустриализации и патриархальности
Миф, научная фантастика, патриархальная культура, рационализм, социокультурная мифологема
Короткий адрес: https://sciup.org/14975239
IDR: 14975239 | УДК: 821.161.1.09«1920»
Текст научной статьи Синтез метажанров научной фантастики, жития и героического эпоса в структуре утопических рассказов А. Платонова первой половины 1920-х годов
В отечественной литературе первой половины 1920-х гг. была очень востребована научная фантастика, завоевавшая «прочные позиции и в “авангарде”, и в слое “престижных”, “популярных” писателей» [6, с. 19]. Ее в тот период публиковали как молодежные журналы («Молодая гвардия», «Всемирный следопыт», «Борьба миров»), так и специальные технические альманахи («Жизнь и техника связи», «Авиация и химия»). При этом в журналистских публикациях отождествлялись научная и социальная фантастика, или утопия. Исходя из данной ошибочной посылки, впоследствии Л.М. Геллер в советской фантастике 1920-х годов выделял три группы: «философская», «политическая» и «коммерческая» [13, p. 3–39], а Д. Сувин сводил специфику литературного преломления панутопизма той эпохи к «техническим утопиям» [14, p. 166].
В 1920-е годы А. Платонов, вероятно, сознательно обращается к жанру научной фантастики, воспринимая его как наиболее приемлемую форму для пропаганды своей уто- пии. Поэтому нам представляется неправомерным видеть в научной фантастике «целостную картину творчества писателя» [5, с. 262]. Также неверно причислять платоновские произведения начала 1920-х годов («Маркун», «Потомки солнца», «Рассказ о многих интересных вещах») к «техническим утопиям», выдержанным в «научно-фантастическом жанре» [4, с. 63, 79].
Платоновская утопия отнюдь не технократическая и не сциентистская. Моделируя свой идеальный мир, он отводит науке и машинам вспомогательную роль в его достижении. Цель его утопии – пересотворение Вселенной при помощи электрической энергии, способствующее «высветлению» человеческой природы. Человек кардинально изменяет свой этико-онтологический статус, сублимировав зов пола в «любовь-мысль» к «конечной Истине», преодолев узость профессионализма и обретя бессмертие. По существу, это «энерго-световая» неорелигия, в основе которой – реконструированный архетип Мессии в его десакрализованном варианте. Поэтому при интерпретации платоновских произведений через христианский контекст иногда возникают неправомерные уподобления его утопии
«догматическому сознанию» православия [1, с. 39] или ошибочная трактовка «Библейских аллюзий платоновского текста» как «основы художественной интуиции писателя, не находящей нравственного оправдания революционному гуманизму» [7, с. 424]. Платонов обращается к христианской символике, текст его произведений насыщен Библейскими реминисценциями, но они, думается, все-таки переосмыслены в контексте его «энерго-световой неорелигии».
Платоновская утопия, несмотря на антураж «научного материализма», мистична по своей сути, так как направлена на переустройство Вселенной и изменение «физических законов» человеческого бытия. Мистическая утопия является своеобразной «матрицей» утопии, латентно содержащей в себе сущностные качества всех утопических социокультурных моделей (эстетической, педагогической, сциентистской, технократической и пр.). Любой утопист, создавая свой проект идеального мира, склонен рассматривать наличное бытие как мир-«недоделку», относиться к нему как к «пластичному полуфабрикату» [3, с. 4], который можно усовершенствовать, равно как и изменить несовершенного «природного» человека. Поэтому социокультурную модель Платонова, в которой наука и «светотехника» выступали лишь способом достижения сверхреального мира «вечного воскресения», уместно обозначить как технико-мистическую утопию . Гармоническое соединение столь разнородных качеств платоновской утопии, как «научность» и «мистичность», обусловили специфику жанровой формы произведений писателя начала 1920-х годов, проявившись в синтезе научной фантастики и мифологической условности. Такова полиструктурность «Маркуна», «Потомков солнца», «Рассказа о многих интересных вещах».
Научно-фантастический вымысел предопределил ряд характерных особенностей поэтики платоновских произведений 1920-х годов. Отметим их.
-
1. Научное открытие (изобретение, гипотеза) является проблемным центром произведения, иногда выступает в качестве сюжетообразующей посылки («Маркун», «Потомки солнца»). Причем детальное изображение открытия, вписывающегося в контекст
-
2. Наличие значимой для утопии иллюзии достоверности, достигаемой не только скрупулезным описанием технического устройства, изобретенного для «переделки» мироздания, но и ценностным совпадением точек зрения нарратора и героя-демиурга в приеме несобственно-прямой речи, в концептуально важных эпизодах повествования.
-
3. Преобладание научной, философско-социальной проблематики над частным бытописанием; схематизм и психологическая неразработанность характеров персонажей, предопределенные спецификой обрисовки человека в момент его одержимости утопической идеей.
современной писателю научной картины (теория относительности, космизм Вернадского, Чижевского, Циолковского и др.), не является для автора эстетической самоцелью. Так как, согласно утопии Платонова, научное открытие (техническое изобретение) – лишь средство этико-онтологического преображения человека, то внимание нарратора сосредоточено на воспроизведении десакрализованной космогонии, базировавшейся на архетипической ситуации пересотворения мира.
Мифологический вымысел, наличествующий в структуре «Маркуна», «Потомков солнца» и «Рассказа о многих интересных вещах», обусловливает следующие особенности их жанровой модели:
-
1. Изображение Вселенной как континуума, целостность которого создана онтологическим единством природы, людей и предметов их труда-творчества, основывающемся на их энергетической причастности «веществу» Земли.
-
2. Реконструкция космогонических архетипов, в которой функция высшей теургической воли и роль демиурга отводится человеку, стремящемуся к обретению «конечной Истины» как «результату прогресса» и пере-сотворению Вселенной.
-
3. Антропоцентричность ценностной модели мироздания, где образ человека-демиурга воссоздается на основе мифологических дихотомий, восходящих к извечному противостоянию Добра и Зла, но переосмысленных в аксиологическом контексте техно-мистической утопии Платонова. Это приводит к таким оппозициям, как «пол ↔ сознание», «“вещество”
-
4. Объективная манера повествования, достигаемая: а) стилизацией героического и волшебного эпоса («Рассказ о многих интересных вещах») и житийной литературы («Мар-кун», «Потомки солнца»); b) преобладание описания поступков и действий персонажа над изображением его «внутреннего человека».
-
5. Художественное время, слабо соотнесенное с реально-историческим временем («Маркун»), экстраполированным в будущее, истолкованное как «промежуточная станция» на пути к вечности («Потомки солнца», «Рассказ о многих интересных вещах»).
земли как “косной природы” (животное, растение, минерал) ↔ свет, энергия (сверхреальное, метафизическое начало»; «любовь к женщине ↔ мысль-любовь к “конечной Истине”».
Рассказы «Маркун» (1921) и «Потомки солнца» (1922), сюжет которых сконцентрирован на описании жизни утопического героя, можно определить как жития «нового человека». Повествование в обоих рассказах ведется от третьего лица, события излагаются в объективной манере, лишены эмоциональной оценки нарратора. Наиболее наглядно эта специфика нарратива проявляется в детальном фактографичном описании изобретения Маркуна и столь же подробном воссоздании истории «переделки неудобной и безумной Земли» инженером Вогуловым [10, т. I, с. 26– 27, 34, 37]. В обоих случаях изображения технократических утопических проектов изобилуют специальной лексикой и, создавая иллюзию достоверности, по своей стилистике приближаются к жанру научного трактата.
В то же время нарративная структура рассказа «Маркун» строится как чередование ракурсов видения бесстрастного, констатирующего только факты повествователя и героя, точка зрения которого не маркирована знаками препинания. Это свидетельствует о ценностном тождестве идеологических позиций героя-утописта и безличного повествователя, выражающих в произведении авторское сознание: «Он опять сидел у лампы и слушал вьюгу за ставнями. Отчего мы любим и жалеем далеких, умерших, спящих. Отчего живой и близкий нам – чужой. Все неизвестное и невозвратное – для нас любовь и жалость. Совесть сжала его сердце, и страдание изуродовало его лицо» [10, т. I, с. 28]. Лишь еди- ножды внутренний монолог Маркуна оформлен как прямая речь. Произносит он его после неудачного эксперимента над машиной-турбиной, предопределившего прозрение героя, почувствовавшего свою пантеистическую связь с мирозданием: «Я увидел весь мир... потому что я уничтожил, растворил себя в нем». После этого немаркированная финальная фраза «мне оттого так нехорошо, что я много понимаю» [10, т. I, с. 31], может восприниматься как выражение точки зрения повествователя и «знак» доминирования авторского сознания над позицией героя.
Тенденциозное декларирование авторской точки зрения наличествует также в нарративе «Потомков солнца», обнаруживаясь в открытом финале «жития» инженера Вогулова. Здесь звучит пророчество о грядущем пересотворе-нии мироздания силой «ультрасвета»: «Вогулов размечет вселенную без страха и жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном, чем дышит человек и что нужно ему не через несметные времена, а сейчас» [там же, с. 40]. Итак, специфика организации нарративной структуры обоих рассказов отчетливо отображает доминирование авторского сознания над позицией утопических героев, образы которых лишь частично воплощают платоновскую модель «нового человека», впервые отраженную в его публицистике.
Образы Маркуна и инженера Вогулова выражают разные этапы становления «новых людей». В поэтике рассказов это преломилось в специфике соотнесенности художественного времени с реально-историческим; в качественных отличиях «их» утопических проектов; в особенностях звучания платоновского мотива «испытания полом».
Время событий в рассказе «Маркун» не датировано, но явственна его соотнесенность с периодом Октябрьской революции, символизированной в образе паровоза, «завизжавший свисток» которого слышит Маркун, разворачивая свои чертежи [там же, с. 25]. Паровоз – образ-эмблема эпохи, обозначающий веру революционеров в прогрессистскую устремленность истории к «светлому будущему» и вместе с тем изобличающий индустриальную отсталость патриархальной России. В нарративе «Маркуна» тесно связаны концепты паровоза и метели: «В это время в поле разыгралась метель, и па- ровозы еле пробивали сугробы... Ветер гудел в туче снега, а иногда вверху метель прорывалась и видны были звезды на сером, будто близком небе» [10, т. I, с. 26, 28]. В данном контексте образ метели может быть истолкован как в его номинативной изобразительности – обозначение непогоды, так и в иносказательном плане – как символ хаоса, в который превращен «паровозом истории» «старый мир». Метафизические смыслы при интерпретации образа метели рождаются не только через аллюзию с хрестоматийным блоковским «ветер, ветер на всем белом свете», но и благодаря Библейским реминисценциям: платоновское «серое, будто близкое небо» коннотирует с Апокалипсическими «небесами, упавшими на землю».
Нарратор бесстрастно фиксирует детали быта Маркуна. «Бегающие по столу тараканы», «клоп на щеке мальчика», «дышащие туго и тяжко пухлые животы детей» – все это емкие детали нищеты и голода. Технически примитивен созданный персонажем проект «двигателя, вырабатывающего энергию», в котором «мощность будет возрастать бесконечно», невзирая на сопротивление окружающей среды. Убога попытка реализации этого проекта, подчеркивающая скудость существования героя: «Маркун раскопал где-то две газовых трубы нужных размеров, согнул их спиралями и сделал приблизительную модель своей турбины». Но скудость обстановки, отображающая реально-историческое положение пореволюционной России, не мешает грандиозным планам героя: «Я пущу в жерло моей машины южный теплый океан и перекачаю его на полюсы. Пусть все цветет, во всем дрожит радость бесконечности, упоением своим всемогуществом» [там же, с. 26–28]. Самоучка Маркун в своем изобретении повторяет заблуждение человечества: в своей «турбине» он намеревается спроектировать «вечный двигатель» [там же, с. 30–31]. Но автор «передоверяет» этому герою сокровенные мысли своей «световой» утопии. В частности, идею мощнейшего «мотора-станка», освобождающего человека «от борьбы с материей труда». Сюда можно также отнести размышления о «бесконечной энергии бесконечного мира», овладение которой даст возможность человеку «пропустить вселенную через спирали мотора» [там же, с. 26–30].
Все это позволяет назвать Маркуна духовно-идеологическим alter ego автора-утописта, и вместе с тем «прообразом» платоновского «нового человека». Проблемный центр рассказа составляет «житие» этого героя, запечатлевающее становление его сознания. Маркун одинок, окружающие «его считают дураком, не тем дураком, какого любят и жалеют, а тем, которого ненавидят». В детстве, когда «потерял веру в бога», он обрел смысл своего существования в том, чтобы «молиться и служить каждому человеку», «боясь» его «как бога, как тайны». И «тогда ему было хорошо», ибо «сердце его горело любовью». Но в момент развития сюжета Маркуну «холодно и плохо», он «корчится в кошмарах» и страдает от осознания своей жестокости в обращении с младшими братьями [10, т. I, с. 30, 29, 28]. Маркуна влечет к себе «все неизвестное и невозвратное»; при этом, хотя он и осознает, что «мир никогда не вмещался в одном человеке», все равно сохраняет эгоцентристскую сосредоточенность. «Разве ты, – замечает он, – знаешь в мире что-нибудь лучше, чем знаешь себя... Ведь и любишь-то ты себя потому только, что знаешь себя уверенней всего». Прозрение героя наступает в момент завершения эксперимента: «Я оттого не сделал ничего раньше, что загораживал собою мир, любил себя... Только сейчас я начал жить. Только теперь я стал миром. Я первый, кто осмелился» [там же, с. 28, 31]. Изобретение турбины как посягательство на преобразование косного природного мира преобразует сознание Маркуна, и он иначе начинает относиться к людям. На смену самоуничижению, «восторгу быть ниже и хуже каждого человека» приходит «скрытая любовь ко всему», что в платоновской утопии означает духовно-телесное, братское, соборное единение с человечеством. Такое мироотношение возможно только в том случае, когда познание и любовь едины: «Но ты не только то, что дышит, бьется в этом теле. Ты можешь быть и Федором, и Кондратом, если захочешь, если сумеешь познать их до конца, то есть полюбить» [там же, с. 25].
С ситуацией преобразования сознания Маркуна концептуально связаны мотивы целомудрия и «вечной» невесты. Маркун, «ни одной девушки никогда не знавший близко»,
«видит во сне свою невесту», «не зная, кто она». Персонификацией символа «вечной невесты» станет девушка, подходившая к избушке лесного сторожа и случайно увиденная Маркуном во время его вечерних прогулок, когда он, как всегда весной, «кого-то любил», но «был незаметен и одинок». Весьма значимо то, что, услышав «ласковый и протяжный крик» девушки, он, томимый «скрытой любовью ко всему», «прилег от неожиданной муки и боли на землю». Неизвестная девушка для Маркуна, подобно матери-Земле, воплощение живородящей силы, но в то же время она – символ стремления героя к пламенному познанию «конечной Истины», персонификацией которой для писателя была «душа (матерь) мира». Именно поэтому Маркун вспомнит о незнакомке в момент испытания турбины: «Рассказал бы ей все, она поняла бы его... И Маркун улыбнулся от счастья и тоски» [10, т. I, с. 25, 30]. Сознание героя формируется тем, что он преобразует энергию «полового чувства» в мысль-любовь к «другому человеку» и «вечной невесте» – «Тайне мира». Благодаря этому Маркун предстает олицетворением «нового человека», «душой» которого стало «сознание», нацеленное на достижение «результата прогресса» в «вечном воскресении» (бессмертии) человечества.
Дихотомия «пол ↔ сознание», в платоновской утопии равнозначная противостоянию «старого» и «нового» мира, в «Потомках солнца» является ядром авторской концепции. «Старый мир» здесь воссоздан при помощи нескольких деталей: «По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок». Образ времени для обитателей рабочей слободы буднично-цикличен, неизменен в своей событийной повторяемости («завтра гудел гудок и опять плакали церковные колокола») и вместе с тем устремлен с надеждой в будущее («люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна... и надеялись на счастье, которое придет завтра») [там же, с. 32]. Но если время «старого мира» типизирует дореволюционную эпоху, так как заводской гудок как символ пролетариата пока еще неразрывно связан с церковными колоколами, то время science fiction репрезентует нормативное, антиисторическое и трансцендентное время утопического идеала автора. Это подтверждает интертекстуальная перекличка детальных описаний проектов Вогулова с утопической концепцией переустройства мира, изложенной Платоновым в статьях «Великий работник», «Душа мира», «Культура пролетариата», «Новое евангелие», «О любви», «Ремонт земли», «Свет и социализм».
Структура образа инженера Вогулова синтезирует ценностные смыслы «старого мира» и «великой эпохи электричества и перестройки земного шара». Нарратор использует прием умолчания имени героя, начиная повествование о житии этого «нового человека»: «Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, и родные плетни, и поле, и небо над всеми ими». Неназванное имя порождает элемент интриги в сюжетопостро-ении, усиливающийся спецификой нарративной структуры в экспозиции. В нарративе пролога, содержащего жизнеописание «нового человека» Вогулова, совмещаются, вплоть до полного слияния, «внутренняя» точка героя и «внешний» ракурс его видения автором-хроникером. Хотя повествование ведется в er-form, оно насыщено пророческими репликами нарратора, свидетельствующими о его всеведении в судьбе героя: «Мальчику казалось, что и гудок, и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется... Ночью душа вырастала в мальчике, и томились в нем глубокие, сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир». В принципе, в данном контексте слова «он» и «мальчик» могут обозначать «всякого ребенка» как «чудо, на которое любуется каждая мать» [10, т. I, с. 32], приближающая своей любовью искупление грехов «старого мира». Насыщенный пророческими интенциями пролог контрастирует с основной частью жизнеописания Вогу-лова, повествование которого объективно и фактографично. Элемент интриги в изображении судьбы главного героя нагнетается тем, что в повествовании о «великой эпохе электричества» также не сразу названо его имя. Впервые оно произносится в антитезном контексте: «Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вогулов, седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами, – тот самый нежный мальчик» [там же, с. 33].
Истоки этого превращения «нежного мальчика» в «старика с ненавидящими глазами» проясняются в открытом финале «фантазии», после подробного описания реализации утопических проектов инженера Вогулова, который не только к земле, но и «ко вселенной подошел не как поэт и философ, а как рабочий» [10, т. I, с. 38]. Изображение претворения в жизнь утопии Вогулова, являющейся, по сути, художественной декларацией авторских взглядов, составляет концептуальный центр произведения. Поэтому художественная структура «фантазии» «Потомки солнца» тяготеет к инварианту «классической» утопии XVI– XVIII веков, содержащей подробное описание гипотетической социокультурной модели, иллюстрирующей идеал автора. Именно этим обусловливаются такие черты художественной системы платоновской «фантазии», как «разреженная» фабула и незначительность динамики сюжетного действия вследствие преобладания описательности над событийностью.
В то же время в миромоделировании «Потомков солнца» наличествуют черты, существенно отличающие данный рассказ от «классических» образцов утопического жанра. Во-первых, если в «классической» утопии нарратором выступал «реальный» житель, рассказывающий о нравах и обычаях своего мира, то в «Потомках солнца» повествование развивается в Er-Erzählung, и его объективность достигается стилизацией научного трактата и репортерской хроники. К тому же сюжетообразующей посылкой в «классической» утопии выступала схема путешествия (в пространстве либо во времени), тогда как в платоновском рассказе основу сюжета составляет изображение действий «нового человека», преобразующего Вселенную. Во-вторых, мир «классической» утопии бытийствен, бесконфликтен, статичен, ритуализован и замкнут в себе. Мир платоновской утопии изображен в момент становления, динамики, он проектив-но развернут в пространстве и времени, кос-мичен, отсюда – авторская сосредоточенность на способе его созидания и пристальное внимание к инженерно-научному его «просчитыванию». Такой ракурс видения может быть объяснен только тем, что еще не завершена авторская утопия, реализуемая в реально-историческом времени «великого Октяб- ря». Утопия Платонова имела антропологическую парадигму, ибо главной целью энергетического пересотворения вселенной было изменение этико-онтологического статуса человека, освобождающегося от «зол» пола, профессионализма и смерти. Этим обусловлено третье отличие структуры «Потомков солнца» от «классической» утопии. Доминантным признаком «классической» утопии был социоцентризм, то есть модель идеального мира обязательно включала подробное описание инфраструктуры, нравов и обычаев гипотетического общества. В утопии Платонова становление «мира электричества» показано через эволюцию сознания Вогулова, «житие» которого составляет концептуальную основу рассказа.
Образ инженера Вогулова схематичен, лишен индивидуальности; он, в сущности, декларативно персонифицирует характеристики, значимые для «нового человека» в платоновской утопии. «Вогулов, – отмечает нарратор, – работал бессменно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и неистощимой гениальностью». Осознав, что «мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенных вещах», он «достиг» того, что овладел универсальным знанием и приступил к «переделке» земли, «вооруженный сознанием и машинами» [10, т. I, с. 33, 35]. Итак, Вогулов – человек «сознания», преодолевший узость профессионализма, обладающий метазнанием и неистощимой энергией труда.
В публицистике Платонов восхвалял «героический труд, труд-жертву, может быть, труд-смерть» [9, с. 81]. О таком труде идет речь в «Потомках солнца»: «Безумие работы охватило человечество. Температура труда была доведена до предела – дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие». Создавая панегирик «труду-жертве», писатель привносит элемент идеократии в свою утопию: «Газеты вели пропаганду работ как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания» [10, т. I, с. 35, 33]. Катализатором в этом «зажигании человеческих черных масс» предстает искусство, но о том, чью
«волю» оно пропагандирует, сказано туманно. Платонова вообще не интересует социально-политическая организация общества будущего. Упоминается только, что работа по «перестройке земного шара» была поручена Во-гулову «мировым совещанием рабочих масс», и он беспрепятственно «десять раз объехал земной шар, организуя работы». Значит, победила мировая революция и пролетариат владычествует на всей планете. Но Вогулов, гениальный ученый и инженер, предстает единственным идеократором «нового мира». Это явственно видно в изображении открытия «ультрасвета»: «И Вогулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе». Нарратор сравнивает его с машинистом-регулировщиком «работающей полным ходом машины», когда создает «хронику» грандиозной переделки земного шара: «Вогулов... садился к аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал... и кричал в аппараты инженерам на Гималаи, на Хингаи, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане». Подобно Богу («дикому творцу»), Вогулов онтологически изменяет человечество, облучив его «элементом инфраполя» и таким образом «привив рабочим массам микробы энергии». Становится «ураганным» темп истории, наступает «быстрая вихревая смена поколений», выработавшая «новый совершенный тип человека – свирепой энергии и озаренной гениальности». Но над всем этим стоит «одна голова и пламенное сознание» Вогулова [10, т. I, с. 35, 39, 36].
Воплощая тип «нового человека», инженер Вогулов единственный возвышается над «рабочими черными массами». Характерно, что прежде чем трансформировать генофонд человечества, он сначала изменил свой этикоонтологический статус. О «сокровенной» причине этого поступка сообщается в завершении повествования, где ретроспективно воссоздается история любви Вогулова, завершенная «безумием и тоской» от утраты возлюбленной. Три года страданий приводят к «органической катастрофе» и перерождают Вогулова: «сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, неимоверной мощи» [там же, с. 40].
Энергия пола – любовь к женщине преобразовалась в энергию сознания, «любовь стала мыслью» к «последней истине» как «результату прогресса», который можно достичь лишь энергетически преобразовывая косную, движущуюся к энтропии «природу», причем не только земли, но и человека [10, т. I, с. 40]. Для Во-гулова движущей силой в «перестройке» мироздания становится стремление воскресить возлюбленную. Причем он «руками хотел сделать это невозможное сейчас». С желанием немедленного устроения «золотого века», по-федоровски понятого как «вечное воскресение», связана способность Вогулова жить «двойной мыслью», суть которой – в ее обращенности не только к современности, но и к «результату прогресса», то есть к вечности. «И в редкие моменты забвения или экстаза, – отмечает в этой связи нарратор, – в разбухшей голове Во-гулова сверкало что-то иное, мысль не этого дня» [там же, с. 36]. Именно эта способность героя-носителя утопического сознания обусловливает то, что в структуре сюжета «Потомков солнца» воспроизведены две утопии, отображающие две «составляющие» технико-мистической утопии Платонова.
Сущность первой – «бешеная и неистовая борьба с природой», становящейся «все более неудобной и безумной». Она заключается в изменении ландшафта планеты, которое должно привести к улучшению климата и, в связи с этим, к тотальной победе человека над природой. «Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов, – описывает автор рукотворный “золотой век”. – Человечество будет переселено в Антарктику – остальная площадь земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли» [там же, с. 33, 35]. Работы по «переделке земного шара» ведутся взрывным методом, где в качестве взрывчатого вещества выступает «энергия – перенапряженный свет» или «ультрасвет». Преобразование природы, по Платонову, – одно из обязательных условий преображения человечества. Именно «от работы» «пламенное сознание» Вогулова становится «все могущественнее», а также «тверже и упорнее материи»; он «проходит весь ад знания... до конца», «рождая для себя сатану сознания, дьявола мысли», дерзнувшего «пересотворить вселенную».
С осуществлением «перестройки» земли технократическая утопия сменяется мистической, и Вогулов решает «взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную – без звезд и солнц – одно ликующее, ослепительное, всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли» [10, т. I, с. 36]. Вычислив «две крайние критические точки вселенной» – свет и инфраэлекромагнитное поле, Вогулов «познает и воспроизводит... механизм вселенной», а затем задумывает ее «пересотворить» силой «ультрасвета», то есть ее энергетической константы – скорости света. Так в технико-мистической утопии Платонова соединяются просветительские мифологемы (представление о Вселенной как грандиозной «машине», обладающей своим «механизмом») и теория относительности (модель космоса как движения энергетических потоков, в которых пространство и время относительны, но неизменна лишь скорость света). Действительно, «конечной целью Вогулова было... выполнить оживление Земли, вылечить ее энергетику с помощью коренного изменения ее структуры» [2, с. 134–135]. Вогулов этого достиг, когда изобрел «фотомагнитный резонатор-трансформатор», благодаря которому «впряг вселенную в станки человека», также преображающегося силой «ультрасвета». В итоге смерть становится «исполнением радостного инстинкта» [10, т. I, с. 39], так как ведет человека к «вечному воскресению».
Итак, в жизнеописании Вогулова Платонов декларировал основные идеи своей технико-мистической утопии. В художественном мире «Потомков солнца», структурированном научно-фантастическим вымыслом, образ инженера Вогулова персонифицировал тип «нового человека» – человекобога платоновской «энергетической религии», так как на стадии тотального приятия утопия превращается в миф. Этого «человека сознания», являющегося платоновским идеалом, можно отнести к типу мифологического героя, в связи с чем возрастает концептуальная значимость жития в структуре «Потомков солнца».
Художественный мир «Рассказа о многих интересных вещах» (1923) основывается на взаимодействии мифологической условности и научной фантастики. Здесь мифо- логическое начало проявляется на двух уровнях художественной структуры – в пространственном миромоделировании и в специфике типизации образа Ивана Копчикова.
Человек и Вселенная, по Платонову, образуют нерасторжимое единство. Это обусловливает в его произведениях антропоморфное изображение природы. Так, в «Рассказе...» солнце в своем «тяжком» труде освещать Землю («делать» день) уподобляется человеку, страдающему «тяжкой печалью» от непосильных забот: «У дня покраснели глаза, уморился он и сомкнул их. Долго слезы и кровь текли по слезницам одноглавого дня и падали с неба на траву. И холодела трава и мочилась» [8, с. 281]. Здесь чернозем и черный хлеб – единая основа не только физического существования, но и духовно-душевной жизни человека.
Мифологическое начало в «Рассказе...» не исчерпывается изображением космоса как континуума, целостность которого создана онтологическим единством растений, животных и людей, в своем существовании неразрывно связанных с «веществом» Земли. Ми-фологизм обнаруживается также в специфике пространственных моделей этого произведения. Они базируются на реконструкции архаических структур космогонии и непосредственно связаны с топографией Суржи. Пронизано апокалипсическими мотивами описание гибели Суржи, трижды истребляемой «па-учищей проклятым – огневым солнышком», «глыбами льда» – градом и «водяным ураганом» [там же, с. 290–291]. Суржа рукотворно возрождается к жизни «неработящим бродягой» Кондратом и пришедшим с Дона Иваном Копчиковым. Подчеркнута убежденность героев в том, что восстанавливаемый ими хутор будет совершенен, в связи с чем земное пространство наделяется ценностями трансцендентного идеала: «Будет Суржа – без голода, болезней, без горестей и драк. Мироносное благолепие будет» [там же, с. 294]. Архетипы космогонических мифов являются структурообразующей основой описания пространственной модели «новой Суржи»: «А в Сурже достраивался уже один большой дом на всех людей. Строился он круглый, кольцом. А в середине сажался сад. И снаружи также кольцом обсаживался дом садом. Так что окна каждой обители-комнаты выходили в сады»
[8, с. 302]. Топография новой Суржи, воссоздавая модель опрокинутого на землю космоса, что показывают круглость дома и архетип сада, также отображает национальное своеобразие русской крестьянской утопии с ее устремленностью к «праведной земле», соборностью и практиками старообрядческих общежитий («дом-обитель»).
Архетипична ситуация переименования Суржи. «Назовем, – говорит Иван, – наше поселение Невестой. Суржа – это хмурое семя. Осень, поздний дождь, голод» [там же, с. 304]. В этом наделении места новым именем по принципу тождественности слова денотату проявляется мифомышление героя, в котором реконструируются мифологема «женщина-город». При этом женское начало синтезировало «растительную» (хтоническое божество – земля – как олицетворение ‘плодородия’) и «космическую» (небо как ‘обитель женственности’) семантику. И. Франк-Каменецкий, рассматривая «небесную» ипостась мифологемы «женщина-город», обращался к Новому Завету, где «Небесный Град» персонифицирован в образе «невесты агнца». Это описывается как пришествие Мессии и обновление мироздания, когда силы зла (драконы тьмы, водная стихия) побеждены световым божеством, а брак «агнца» с «городом-невестой» порождает «торжество новой веры», слияние земли и неба [11, с. 535– 536]. Этот символический брак означал смерть старого во имя рождения нового, подобно тому, как земля является могилой для зерна, но вместе с тем и источником новой жизни, развившейся из семени. «Поселение во имя невесты», созданное «большевицкой нацией», – это прообраз грядущего соборного братства человечества, «душой» которого стало «сознание». В символе Каспийской Невесты подчеркнута ее духовно-небесная сущность: «Ты тощее семя, которое никогда не разбухает человеком». Каспийская Невеста – это персонификация «души мира», а значит, и «последней Истины». Наглядно это демонстрируют слова инженера Баклажано-ва, обращенные к героине: «Женщина, я гляжу на тебя и не требую больше смысла жизни и не ищу истины... Будь здорова и бессмертна» [8, с. 305, 317]. В свете этого «новая Суржа» как «дом-обитель» Каспийской
Невесты предстает пространственной моделью «нового мира», которая должна распространиться на весь «белый свет».
В «Рассказе...» образ Ивана Копчикова, привносящий динамизм в развитие действия, фокусирует мифологическое начало на уровне сюжетопостроения. «Жизнеописание» этого мифологического героя платоновской утопии дано в форме стилизации героического эпоса, иронический эффект которой достигается аксиологическим уравниванием чудесного и обыденного. Думается, использование просторечий и прозаических ситуаций акцентирует момент авторской игры с читательскими стереотипами: «Рос прямо рысью: в полгода вырос в аршин и начал ходить. А в 11 месяцев и 11 дней дернул мать за юбку и сказал просто и ясно: “Мам, исть хотца. Дюже. Дай ломоть. Да поболе посоли”» [8, с. 280]. Момент игры усиливается тем, что главам, повествующим о «похождениях» Ивана Копчикова, предпосланы аннотации, типичные для авантюрных жанров. Например, «гл. 1, рассказывающая о рождении Ивана Копчикова и первых его похождениях», «гл. 10, где сверку-ляющая небесная сила обретается Иваном и замордовывается в работу навеки» и др. т. п. [там же, с. 280, 290]. Но наличествующая в нарративе «Рассказа...» пародийная стилизация былинного эпоса отнюдь не снижает «статус богатырства» Ивана Копчикова. В типизации его образа сохранены все традиционные атрибуты героя героического и волшебного эпоса: чудесно-стремительный рост («рос прямо рысью»); недюжинная сила («в четыре года мог уж... удержать корову за хвост»); ум, смекалка и сноровка (эпизоды спасения волка и Суржи, умение «работать как колдун», победа над босяцкой ордой); наличие чудесного помощника (волк Горелый); единение с миром животных и вместе с тем возвышение над ним («Иван Копчиков окончательно покорил [волков] людям своими ласковыми поглаживаниями и взглядами своими властными»), чудесное рождение («в волчьей тоске зачал Ивана волк») [там же, с. 281, 283, 284, 286– 287, 294, 298, 303].
Выход Ивана Копчикова за пределы замкнутого, «своего» пространства Суржи и его «великое странствие по всему белому свету» повторяет ритуальную схему инициации, ре- конструирующую ситуацию творения космоса. Космогонические мифы, явившиеся сакральным архетипом утопии, имеют непосредственное отношение к цивилизаторской миссии человека, всегда «строившего по архетипу». Поэтому «обосноваться в новом... крае равносильно акту Творения» [12, с. 29]. Иван Копчиков, создавший «Новую Суржу» и основавший «новую нацию большевиков», не удовлетворен достигнутым патриархальным идеалом. Он убежден, что «надо найти у мира голову и треснуть по ней... мыслью, превращенной в машину». Для него «бегство в города» с их «книгами и мыслями» – это приобщение к миру культуры и цивилизации. Кроме того, в момент испепеления Суржи Иван бросил вызов «огневому солнышку»: «Доконаю, подчиню тебя нашей воле». В свете этого испытание Копчикова «чужим» пространством равнозначно процессу поиска-и-обрете-ния этим мифологическим героем «последней истины», которая, в соответствии с «энергетической» неорелигией Платонова, заключается в «постижении того, что такое электричество», и «как строится наша вселенная» [8, с. 302, 290, 293]. Путешествие Ивана Копчикова – заключительный этап в его становлении как «нового человека», ибо, попав в город, он наконец все узнает об электричестве и об электромагнитном строении Вселенной.
Социокультурная наполненность платоновского утопического идеала предопределяет появление элементов научной фантастики в структуре «Рассказа о многих интересных вещах». При помощи научно-фантастической условности создана модель «постройки нового человека», являющаяся сциентистской утопией, так как теория «бессмертной плоти» отражает идеи платоновской «энергетической» неорелигии. Обращение к научно-фантастическому вымыслу также обусловлено включением в систему персонажей образа инженера Баклажанова, которому автор переадресовывает свои представления об электромагнитном строении Вселенной. С этим героем также связано описание научного открытия, свойственное science fiction. Баклажанов изобретает «снаряд», «как бы воздушный шар», наполненный «электромагнитной энергией», для «полета с звезды на звезду». В структуре сюжета изобретение инженера Баклажа- нова служит поводом для изложения теории электричества и «аргументирует» появление эпизода космического полета. Значит, научная фантастика в структуре «Рассказа...» играет факультативную роль. Сюжет рассказа центрирован вокруг главного героя, являющегося персонификацией «нового человека».
Таким образом, двуаспектность платоновской проспективной модели идеального мира, явившаяся следствием взаимодействия в отечественной ментальности 1920-х годов традиций патриархальной культуры и новоевропейского рационализма, обусловила специфику художественной структуры произведений: технико-мистическая утопия Платонова, бывшая для автора социокультурной мифологемой, потребовала художественной системы, организованной синтезом мифологической и научно-фантастической условности.
Список литературы Синтез метажанров научной фантастики, жития и героического эпоса в структуре утопических рассказов А. Платонова первой половины 1920-х годов
- Антонова, Е. «Безвестное и тайное премудрости...» (Догматическое сознание в творчестве А. Платонова)/Е. Антонова//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -М.: ИМЛИ РАН, 1995. -Вып. 2. -С. 39-54.
- Баршт, К. А. Художественная антропология Андрея Платонова/К. А. Баршт. -Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2001. -184 с.
- Гальцева, Р. А. Очерки русской утопической мысли ХХ века/Р. А. Гальцева. -М.: Наука, 1991. -208 с.
- Геллер, М. Я. Андрей Платонов в поисках счастья/М. Я. Геллер. -М.: Изд-во МИК, 1999. -432 с.
- Гусев, С. Апология массового познания и целостная картина творчества Андрея Платонова/С. Гусев//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -М.: ИМЛИ РАН -Наследие, 2000. -Вып. 4. -С. 262-270.
- Дубин, Б. В. Социальное воображение в советской научной фантастике 20-х гг. (обзор)/Б. В. Дубин, А. И. Рейтблат//Социокультурные утопии ХХ века. -М.: ИНИОН, 1988. -Вып. 6. -С. 14-48.
- Московская, Д.С. Художественное осмысление политической реальности первого десятилетия революции в прозе А. Платонова 1926-1927 гг.//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -М.: ИМЛИ РАН -Наследие, 2000. -Вып. 4. -С. 395-429.
- Платонов, А. Рассказ о многих интересных вещах/А. Платонов//Рассказ-88/сост. В. Васильев. -М.: Современник, 1989. -С. 280-327.
- Платонов, А. Чутье правды/А. Платонов. -М.: Сов. Россия, 1990. -С. 80-82.
- Платонов, А. Собрание сочинений: в 3 т./А. Платонов. -М.: Сов. Россия, 1984-1985.
- Франк-Каменский, И. П. Женщина-город в библейской эсхатологии/И. П. Франк-Каменский//С.Ф. Ольденбургу к 50-летию научной деятельности. -Л.: Наука, 1934. -С. 531-554.
- Элиаде, М. Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское/М. Элиаде. -М.: Ладомир, 2000. -414 с.
- Heller, L. De la science fiction soviétique: Par de là le dogme, un univers/L. Heller. -Lausanne, 1979. -249 p.
- Suvin, D. Pour une poétique de la science fiction: Etudes en theorie rt en historie d'um genre litt/D Suvin. -Monréal, 1977. -228 p.