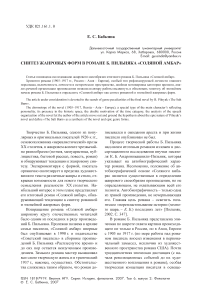Синтез жанровых форм в романе Б. Пильняка «Соляной амбар»
Автор: Бабкина Е.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию жанрового своеобразия итогового романа Б. Пильняка «Соляной амбар». Хронотоп романа (1905-1917 гг., Россия - Азия - Европа), особый тип рефлексирующей личности главного персонажа, включенность личности в историческое пространство, двойная мотивировка категории времени, анализ речевой организации произведения позволили автору работы выдвинуть и обосновать гипотезу об эпопейном начале романа Б. Пильняка и определить «Соляной амбар» как синтез романной и эпопейной жанровых форм.
Короткий адрес: https://sciup.org/14736852
IDR: 14736852 | УДК: 821.161.1.
Текст научной статьи Синтез жанровых форм в романе Б. Пильняка «Соляной амбар»
Статья посвящена исследованию жанрового своеобразия итогового романа Б. Пильняка «Соляной амбар».
Хронотоп романа (1905–1917 гг., Россия – Азия – Европа), особый тип рефлексирующей личности главного персонажа, включенность личности в историческое пространство, двойная мотивировка категории времени, анализ речевой организации произведения позволили автору работы выдвинуть и обосновать гипотезу об эпопейном начале романа Б. Пильняка и определить «Соляной амбар» как синтез романной и эпопейной жанровых форм.
The article under consideration is devoted to the search of genre peculiarities of the final novel by B. Pilnyak «The Salt Barn».
The chronotope of the novel (1905–1917, Russia – Asia – Europe), a special type of the main character’s reflecting personality, its presence in the historic space, the double motivation of the time category, the analysis of the speech organization of the novel let the author of the article move out and ground the hypothesis about the epic nature of Pilnyak’s novel and define «The Salt Barn» as a synthesis of the novel and epic genre forms.
Творчество Б. Пильняка, одного из популярных и оригинальных писателей 1920-х гг., основоположника «нереалистической» прозы XX столетия, в жанровом аспекте чрезвычайно разнообразно (поэзия, мемуаристика, публицистика, бытовой рассказ, повесть, роман) и обнаруживает тенденции к жанровому синтезу. Экспериментируя с формой, писатель органично синтезирует в пределах художественного текста различные жанры и стили, открывая возможности для нового творческого осмысления реальности XX столетия. Наибольший интерес в этом плане представляет его итоговый роман «Соляной амбар», обнаруживающий тенденцию к синтезу романной и эпопейной жанровых форм.
Возвращение романа «Соляной амбар» широкому кругу отечественных читателей было одним из последних в ряду произведений Б. Пильняка. Пролежав полвека в архиве семьи писателя, «Соляной амбар» впервые был опубликован в 1990 г. в издательстве «Советский писатель» в сборнике произведений Б. Пильняка «Расплеснутое время» и до сих пор остается неизученным произведением. Замысел романа мастер вынашивал всю свою творческую жизнь и в трагический 1937 г., наконец, осуществил. Обстоятельства сложились таким образом, что роман до- писывался в ожидании ареста и при жизни писателя опубликован не был.
Процесс творческой работы Б. Пильняка над своим итоговым романом изложен в диссертационном исследовании внучки писателя К. Б. Андроникашвили-Пильняк, которая указывает на автобиографический характер романа. Несомненно, положение об автобиографической основе «Соляного амбара» является существенным в определении жанрового своеобразия произведения, но не определяющим, не охватывающим всей его полноты. Автобиографичность – только одна из граней произведения, не исчерпывающая его. Главная цель романа – осветить гигантское «перепластовывание истории (земного шара. – Е. Б .) последних лет» [Пильняк, 2002. С. 347].
В романе Б. Пильняка представлена эпическая по широте охвата картина происходящего не только в России, но в Азии, Европе с 1905 по 1917 г. (по мере работы над романом писатель вносил изменения в первоначальный замысел, исключив из художественного пространства романа США). Почти тридцатилетняя эпическая дистанция (с начала революционных событий до их художественного воплощения в романе), особая творческая концепция писателя в освеще-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 2: Филология © Е. С. Бабкина, 2007
нии обширного периода мировой истории позволяют выдвинуть гипотезу об эпопей-ном начале романа Б. Пильняка и определить «Соляной амбар» как синтез романной и эпопейной жанровых форм.
В современном литературоведении остается полемичным вопрос о том, существует ли жанр романа-эпопеи. В полемике вокруг понятия романа-эпопеи обнаруживаются противоположные мнения, суть которых сводится к тому, что образование этой формы исследователи связывают либо с романом, развивая теорию перерастания романа в эпопею (А. В. Чичерин), либо отстаивают теорию размежевания жанров как самостоятельных, имеющих каждый свою историю развития, т. е. отрицают контакт между ними и возражают против их объединения термином «роман-эпопея» (М. М. Бахтин). Третья группа исследователей (А. Я. Эсалнек, Н. И. Великая) интерпретируют роман-эпопею как явление жанрового синтеза. Автор данной работы разделяет теорию жанрового синтеза романа и эпопеи как более плодотворную, жизнеспособную, отражающую масштабность авторского замысла и сложный творческий процесс работы писателя над художественным произведением.
Первоначальное название романа «Соляной амбар» – «Поколения» – во многом разъясняет содержательную сторону произведения, делает более зримым первоначальный авторский замысел. Основное действие романа происходит в провинциальном городке Камынске и его окрестностях и охватывает все социальные слои общества. Сконструированное писателем название города – Ка-мынск – не может скрыть города-прототипа, присутствие которого ощутимо в описаниях местечек и улиц провинциального города. В романе в очередной раз описан город Коломна, где долгое время жил Б. Пильняк. Этот город, как и образы провинции и всей России, является доминирующим в творчестве писателя («Голый год», «При дверях», «Красное дерево» и др.).
Книга состоит из тринадцати глав и повествует о жизни провинциального городка и его жителях, переживающих вместе со всей Россией и Европой сложный период 1905–1917 гг. Сквозь призму судеб семей Шерстобитовых, Обуховых, Бабениных, Кошкиных, Разбойщиных, Криворотовых, представителей разных сословий и идеологий, Б. Пильняк изображает ход жизни, ее течение, которое вовлекает в свой водоворот человека, вынужденного вступить в «личные отношения» с историей.
Борис Пильняк намеренно не ограничивает в романе пространственные рамки, расширяя их от Камынска до Петрограда, Порт-Артура, Берлина. Широта пространственного охвата романа Б. Пильняка показывает, что Россия органически связана с революционными идеями Европы, включена в мировое историческое пространство.
Основным признаком романа-эпопеи является тот факт, что отнюдь не каждое историческое событие, повлиявшее на судьбу народа, может стать предметом эпопеи. Предметом ее становится особое состояние мира. В соответствии с творческим замыслом, Б. Пильняк для художественной разработки взял значительный жизненный материал – двенадцать лет истории России и Европы. Тридцатилетняя эпическая дистанция между первой русской революцией и ее художественным воплощением на страницах романа позволила писателю осмыслить события, предшествующие первой мировой войне и Октябрьской революции, всю сложную идеологическую борьбу, ход духовных исканий и заблуждений, «суматоху» мыслей, сквозь которую пробивала себе дорогу идея революции. Забастовки, подпольные антимонархические организации, Гражданская война, русско-японская война, первая мировая война, революция 1917 г. осмыслены автором как события, имеющие мировые, общеевропейские корни, явления, определяющие судьбы людей всего мира. Таким образом, Б. Пильняк в своем произведении сопрягает субстанциальное, эпическое начало с локальным материалом, переплетая судьбу отдельного человека с историей. Эпопейная и романные сферы бытия оказываются не только внутренне сопричастными, но и нераздельными, образуя жанровый синтез.
Главный герой романа «Соляной амбар» Андрей Криворотов (во многом близок самому автору) включается в особую систему связей, находится в широком взаимодействии с миром реального бытия. Сын земского врача-народника, Андрей проходит свой сложный путь к признанию революции. Автор показывает, как герой самостоятельно, вдумчиво, прислушиваясь к голосу не только разума, но и сердца, делает свой выбор, строит свою судьбу.
Борис Пильняк наделил своего главного героя, терзаемого сомнениями, чувством ответственности за все происходящее. Среди художественных средств сцепления субъективного и объективного факторов для автора важны те, которые передают осмысление героем жизненных ситуаций и связаны с его духовным становлением, самоосмыслением: «…из небытия я есть тот центр, вокруг которого вращается бытие, – я центр бытия, бытие исходит из я , познан я , подчинен я , – я – центр. И приходит час, когда это ощущение, осознанное, исчезает, смененное разумом: нет, я вовсе не центр <…> я – только элемент и должно двигаться вокруг других элементов, в лучшем случае соподчинение, но у громадного большинства – просто подчиненное» [Пильняк, 1994. С. 57]. Для автора и его героя сделать выбор в пользу того или иного события или поступка – прежде всего ответственность перед собой и окружающими. Когда у Криворотова появляется возможность участия в готовящейся забастовке, им движет, скорее, юношеское любопытство, подкрепляемое симпатией к революционеру Молдавскому: «Забастовка! – во здорово!..» [Там же. С. 108]. Но сцена жестокого разгона демонстрантов заставляет всерьез взглянуть на происходящее, почувствовать жестокую необратимость революционных перемен. Увиденное произвело переворот в душе Андрея, породило массу сомнений. В разговоре с Климентием Обуховым Андрей не скрывает собственной растерянности: «Ты знаешь, что теперь пишут в газетах, <…> – эсеры, – меньшевики, большевики… Прости меня, я хочу спросить, – ты веришь, что правда за революцией, что она победит? <…> Что дала революция, – виселицы, ссылки, споры… что дала революция твоему отцу?.. Тебе не страшно?» [Там же. С. 174–175].
Хаос и трагичность революции воспринимаются Б. Пильняком не только как разрушительная, но и созидательная сила, поскольку она способствует раскрытию духовных возможностей человека, позволяет направить его деятельность в гуманистическое русло. Андрей Криворотов считает своим революционным долгом не идеологическую борьбу, а прежде всего борьбу за утверждение вечных, общечеловеческих ценностей: жизни, любви к ближнему, правды, верности семье, дружбе, избранному делу. Революция дала герою надежду на возможность изме- нить окружающий мир, сделать его чище и нравственнее. Перейдя на сторону революции, Андрей Криворотов видит в ней силу, способную укрепить этические, нравственные основы человеческой жизни: «От войны я не прячусь, но – воюю с войной», – говорит Андрей отцу, который с недоумением признает правду сына [Там же. С. 346]. По мысли Криворотова, революция должна привести к «очеловечиванию человека», его позитивному изменению.
В зоне внимания Б. Пильняка при создании романа «Соляной амбар» оказался герой, близкий писателю по своему душевному строю, нравственной позиции, по восприятию событий и выбору жизненного пути. Именно отсюда – от личного опыта и наблюдения за той частью интеллигенции, которая в революции обретала для себя истинно человеческое, гуманистическое начало – шло стремление обобщить этот процесс, вскрыть его внутреннюю мотивировку.
В «Соляном амбаре» классическая двойная структура эпоса, соединяющая личную волю, поступок героя с силами объективных требований, обстоятельств, способствует показу «хода жизни» с его социально-исторической причинностью, связью общих исторических закономерностей со случайными ситуациями в судьбе индивидуальной личности.
Стремление к обобщению, сама эпическая ситуация рождают особый тип художественного времени в романе. Мотив неотвратимой гибели старого мира и рождение новой, динамичной эпохи составляют стержневую основу образа времени, который из ряда исторического постепенно переходит в ряд индивидуальный и обратно. У Б. Пильняка эти временные ряды представлены не параллельно, они пересекаются, взаимодействуют.
По законам эпопейного жанра в «Соляном амбаре» между рядом историческим и индивидуальным устанавливается причинно-следственная связь, историческое время вторгается в пространство личной жизни, детерминирует направление потока индивидуальной жизни. Так, например, вхождение Андрея Криворотова в коммуну не только определяет его жизненную позицию, но и делает жизнь более динамичной, осмысленной: «В коммуне Андрей ощутил время. В коммуне не просто жили, – в коммуне осмысливали время, жили во времени, ожидали время, обновляли время, ценили время. <…> Люди жили в движении» [Пильняк, 1994. С. 95].
Сложность изображения времени в романе создается тем, что оно изображается с нескольких позиций. Одна из них – позиция Андрея, другая – Ипполита Разбойщина, приспособленца, примкнувшего к делу революции в поисках выгоды, личного благополучия. Но материальный комфорт не приводит к душевной гармонии. Для него и таких, как он, «время стало пустым и бессмысленным» [Там же. С. 143]. Категория времени в данном контексте воспринимается как социальная, историческая, нравственная, оценочная. Социальный акцент в описании времени становится основным.
Временная структура романа такова, что судьбы героев оказываются связанными не только с отдельными эпизодами жизни страны, но и с историческим ходом всего европейского мира. Это обстоятельство способствовало введению широкого пласта документального материала (приказы, выписки из газет, военные хроники, донесения, телефонограммы) в структуру художественного текста. Разумеется, этот материал не всегда прямо связан с судьбами героев, но способствует воспроизведению основной исторической ситуации, которая неизбежно вовлекает в себя судьбы героев произведения. Динамичная структура художественного времени в романе Б. Пильняка «Соляной амбар» выступает в качестве организующего принципа повествования и является началом жанрообразующим.
Раскрытие жанрового своеобразия сложного и многопланового произведения Б. Пильняка «Соляной амбар» вне анализа словесной организации романа было бы неполным. Естественно, что жанр как типологическая категория вбирает в себя родовые приметы. Размышляя о внутрижанровой типологии романа, М. Бахтин выделяет монологическую и полифоническую формы, опираясь при этом на особенности словесной организации произведений. Романное многоголосие составляет особый жанровый принцип речевой организации произведения. Пользуясь термином М. Бахтина, рассматриваемый роман можно было бы назвать «диалогическим».
Речевая стихия «Соляного амбара» многоголосна, охватывает пестрое разноречье интеллигенции, крестьянства, рабочих, ка- зачества, чиновничества, купечества. Роману присуща многостильность, включающая в свою сферу и строгий стиль военной речи, официальных документов, деклараций, донесений и т. п.
Система образов «Соляного амбара» включает характерный для «открытой» структуры романа тип персонажей, не определившихся окончательно, противоречивых, ищущих. Некоторые из них мучаются, как Леопольд Шмуцокс, осознанием порочной любви к собственной матери, некоторые, как Ипполит Разбойщин, при внешнем благополучии испытывают внутреннюю неудовлетворенность и душевную тоску. Сосредоточенность на слове персонажа, на его самораскрытии определяет внесубъектное по своему характеру авторское оформление повествовательного текста. Главная ставка на слово персонажа не только увеличивает объем композиционно выделенной речи героев (диалогов, монологов, реплик), но и переводит повествование в полифонический план, который дает возможность свободного самораскрытия множеству сталкивающихся сознаний и точек зрения. Кто из героев прав, кто заблуждается, писатель не выявляет в прямой оценке. Авторское повествовательное слово, как правило, нейтрально. Однако в некоторых случаях оно становится двухголосным.
В уста Климентия Обухова, революционера, товарища Андрея Криворотова Б. Пильняк вложил пророческую фразу: «Ты пишешь, что судьбы многих наших камынцев прерываются бессмыслицей, Исаак Шиллер, брат милосердия, убит, Кацауров, офицер, убит, Миша Шмелев, Георгиевский кавалер и калека, чертановцы развеяны по миру. <…> И тем не менее думается мне, что может быть – и должен быть – такой роман, где механическая смерть всех его героев будет самым закономерным концом. Это в том случае, если роман посвящен эпохе, которая гибнет закономерно» [Пильняк, 1994. С. 340].
Несмотря на то, что эти слова произносит один из героев, в них явственно чувствуются авторский акцент, авторская позиция. Тридцатилетняя эпическая дистанция, личное участие в деле революции позволили Б. Пильняку на горьком опыте осознать утопичность собственных гуманистических надежд, самому ощутить последствия поворота исторического вектора не только в судьбе
России, но и всей Европы. В деле революции восторжествовали не справедливость и добро, а насилие, жестокость и страх, породившие тоталитаризм, геноцид русского народа.
В «Соляном амбаре» повествуется о событиях эпохального масштаба, но «массовых» народных сцен в романе практически нет. В этом художественном приеме состоит особое авторское видение эпохи. Отсутствие обобщенного народного образа с присущим ему «хоровым» началом объясняется тем, что, согласно Б. Пильняку, народ – не безликая масса, а совокупность личностей, частных судеб. Отсюда введение в роман огромного числа действующих лиц с собственной, индивидуальной судьбой, судьбой целых поколений. Эпопейная целостность народного мнения – это, прежде всего, сложная система синтезированных частных мнений, объединенных или разъединенных друг с другом.
Ретроспективность и доминанта авторской позиции, полистилизм и речевое многоголосье «Соляного амбара», несомненно, уводят роман Б. Пильняка от жанра эпопеи с присущим ей «хоровым единством», в котором народное многоголосие предстает в единстве суждений, оценок, в слиянии голо- са автора и героя с «мнением народным». Писателем более отчетливо оформлен принцип романной полифонии, множественность субъектных позиций. Жанр романа в данном случае является ведущим, основным.
Однако особый тип рефлексирующей личности, ее включенность в историческое пространство, фабульная незавершенность судьбы главного героя, двойная мотивировка категории времени, попытка эпического охвата на уровне речевой организации, которая проявляется в романе через собственно авторскую, самобытную концепцию, ориентированную, прежде всего, на человеческую личность – все это стимулировало создание особого типа романа, синтезирующего в себе отдельные признаки эпопеи как формы, глубоко адекватной характеру эпохи и художественному сознанию писателя, постигающего закономерности исторического бытия.