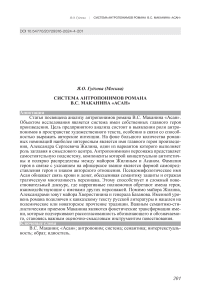Система антропонимов романа В.С. Маканина "Асан"
Автор: Гудзова Я.О.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу антропонимов романа В.С. Маканина «Асан». Объектом исследования является система имен собственных главного героя произведения. Цель предпринятого анализа состоит в выявлении роли антропонимов в пространстве художественного текста, особенно в связи со способностью выражать авторские интенции. На фоне большого количества романных номинаций наиболее интересным является имя главного героя произведения, Александра Сергеевича Жилина, один из вариантов которого выполняет роль заглавия и смыслового центра. Антропонимикон персонажа представляет самостоятельную подсистему, компоненты которой концептуально антитетичны и полярно распределены между майором Жилиным и Асаном. Фамилия героя в связке с указанием на офицерское звание является формой самопредставления героя и знаком авторского отношения. Псевдомифологическое имя Асан обнажает связь крови и денег, обесценивая семантику защиты и отражая трагическую многоликость персонажа. Этому способствует и сложный повествовательный дискурс, где нарративные полномочия обретают имена героя, взаимодействующие с именами других персонажей. Помимо майора Жилина, Александрами зовут майора Хворостинина и генерала Базанова. Именной уровень романа подключен к кавказскому тексту русской литературы и нацелен на полемическое или новаторское прочтение традиции. Важным семантико-стилистическим приемом Маканина являются фонетические трансформации имени, которые подчеркивают рассогласованность обозначающего и обозначаемого, становясь важным оценочно-смысловым инструментом повествования.
В.с. маканин, «асан», антропоним, система, семантика, интертекстуальность, образ, идиостиль
Короткий адрес: https://sciup.org/149147187
IDR: 149147187 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-201
Текст научной статьи Система антропонимов романа В.С. Маканина "Асан"
The article focuses on the analysis of anthroponyms of Makanin’s novel “Asan”. The study is concerned with the system of proper names in Makanin’s literary work. The purpose of the undertaken analysis is to identify the role of anthroponyms in the space of a literary text, especially in connection with the ability to express the author’s intentions. The study resulted in several characters of the novel and Alexander Sergeevich Zhilin, the main character, the most interesting of them, a variation of which is in the title and in the semantic center. The character’s anthroponymicon represents an independent subsystem, the components of which are conceptually opposite and diametrically divided between Major Zhilin and Asan. The character’s name, along with the officer’s rank, self-identifies the literary personality and expresses the author’s attitude. The pseudo-mythological name of Asan reveals the connection between blood and money, reducing the protective semantics and reflecting the tragic richness of the character’s personality. The concrete and complex narrative personifies the character’s name and interacts with others in synchrony and diachrony. In addition to Major Zhilin, Major Khvorostinin and General Bazanov are also called Aleksandr. The names used in the novel are associated with the Caucasian texts of Russian literature and are aimed at a polemical or innovative reading of the tradition. The phonetic transformation of names becomes Makanin’s important evaluative and semantic tool, which emphasizes the discrepancy between the nominated person and the nominee.
ey words
Makanin; “Asan”; anthroponym; system; semantics; intertextuality; literary figure; individual style.
Сложность повествовательной манеры, притчевая форма, установка на новаторски-полемическое прочтение традиций русской классической литературы являются отличительными особенностями романа «Асан», едва ли не самого дискуссионного в творчестве В.С. Маканина. Одним из путей постижения идейного и образно-мотивного потенциала произведения является изучение системы его антропонимов.
Исследование имен собственных романа «Асан», с одной стороны, послужит постижению художественно значимого аспекта поэтики позднего Маканина, с другой – продемонстрирует возможности антропонимов как системы, реализующейся не только на уровне взаимодействия образов и в процессе их формирования, но и в проекции на сюжетно-композиционную организацию произведения, интерпретацию характеров и идейное содержание художественного целого.
Большой интерес вызывает имя главного героя произведения, Александра Сергеевича Жилина, тем более что один из его вариантов (Асан) выполняет роль заглавия и смыслового центра. Немаловажным является и то обстоятельство, что именования персонажа составляют целый набор антропонимов и их модификаций, что дает основание рассматривать антропонимикон героя в качестве самостоятельной подсистемы с художественно значимым набором функций. Еще одним поводом для подобного подхода является принципиальная повторяемость имени Александр в романе.
Система имен главного героя, выходя далеко за пределы языковой трехчленной формулы (фамилия, имя, отчество), включает окказиональное имя, претендующее на главенство в системной организации на правах заглавия, а также имена нарицательные, указывающие на социальный статус персонажа и отношение к нему говорящих. Антропонимы главного героя концептуально антитетичны: отдельные компоненты и вся трехчленная формула противостоят имени окказиональному. Указанный художественный прием акцентирует внимание на доминантной характеристике образа, существенной в контексте идейного содержания романа.
Показательно, что в произведении представлены не все модели именования. По количеству употреблений внимание автора распределяется следующим образом: имя и отчество (25 словоупотреблений), фамилия (83), полное имя (2), уменьшительная форма имени с учетом различных фонетических вариантов (109), окказиональное имя, употребленное с фамилией или самостоятельно, а также его варианты (17), наконец, нарицательные существительные в роли имен собственных (34). Принципиально важно, что ни одно из именований не является самодостаточным и исчерпывающим, не соответствует в полной мере характеру и ситуации, а это, как известно, «сигналы крайнего неблагополучия» [Никонов 1974, 40].
Обращает на себя внимание отсутствие в ряду многочисленных имен Жилина традиционной трехчленной формулы. Без учета логики развития авторской мысли этот факт выглядит несущественным и едва ли не случайным, но при внимательном к нему отношении именно он оказывается важным звеном в создании многослойного, по-маканински неоднозначного и в полной мере многоликого образа.
Одним из первых эту особенность творчества современного классика отметил Л.А. Аннинский, который констатировал отсутствие в художественном мире писателя традиционных и привычных «личностей», «полновесных героев» или пресловутой «галереи типов»: «<…> Невозможность выработать к герою однозначное отношение есть неотъемлемая черта Маканина: его тема и его вопрос» [Аннинский 1989, 242]. Именно этот вопрос манифестирует, в том числе, сложная система имен главного действующего лица «Асана», не столько разводя лики героя по полюсам добра и зла, сколько оттеняя сложный синтез противоречивых начал в структуре его личности, где «объективное» и «субъективное», «внешнее» и «внутреннее», «интуитивное» и «рациональное», «духовное» и «материальное» составляют неотъемлемые части романной судьбы героя, очередного «образа-эмблемы», во многом предопределенного семантикой его имени.
В этой связи уместно вспомнить выводы П. Флоренского, убежденного, что образы в художественном произведении «суть не иное что, как имена в развернутом виде» и что имя выражает определенный тип личности, «духовное строение» которой проявляется как реализация потенциала имени в пространстве художественного произведения через «отношение духовной сущности – к другому» [Флоренский 2000, 181–182].
Выводы философа органично приложимы к поврежденной войной, но живой душе главного героя «Асана», чья природа обнаруживается как на уровне взаимодействия с другими персонажами, так и на уровне антропонимикона произведения, а также в процессе реализации интертекстуальных возможностей имени-цитаты. Спектр ассоциаций, вызываемых именованиями главного героя тем более многосложен, что имена протонимов не только не зашифро- ваны, но открыто манифестированы и в их выборе можно усмотреть сразу несколько вариантов авторской мотивации.
С одной стороны, по данным за 1961 г., а именно этот или один из ближайших годов должен быть годом рождения маканинского героя, сорокалетие которого совпало со временем второй чеченской войны, Александр – одно из самых часто используемых имен [Никонов 1974, 72]. С другой, в «Словаре личных имен» А.В. Суперанской имя Александр возведено к двум греческим основам, которые переводятся как «защищать» и «мужчин» [Суперанская 2005, 28].
Семантика защиты и самозащиты как вынужденной меры, связанной с противостоянием опасным для жизни обстоятельствам, – главное, что сближает имена Александр и Асан на уровне этимологического значения основ. Так, в словаре Н.М. Тупикова представлена фамилия «Асанчукъ», связанная с именованиями «Гасанъ, Осанъ, Газанъ» [Тупиков 1903, 32, 103]; в книге «Ономасти-кон» С.Б. Веселовского «Асан» – собственное имя татарского происхождения, служившее именем, прозвищем или фамилией в Северо-Восточной Руси XV– XVII вв. [Веселовский 1974, 16].
Как уже упоминалось, имя Александр в романе целенаправленно повторяется. Помимо майора Жилина, так зовут капитана, а затем майора Хворостини-на и «читающего генерала» Базанова. Базанову принадлежит «открытие» древнего идола Асана, а также и его протагониста в лице Александра Великого, от имени которого берут начало многие горские имена: «Аслан у чеченцев… Сандро у абхазов… и просто Александр у грузин… Искандер… Скандербег… это все Александры!» [Маканин 2018, 146]. Базанову принадлежит первенство в установлении связи двурукого божества с Александром Жилиным и с другими носителями имени: «Мы тоже от того самого Александра ведем свои имена… Майор Жилин – Асан. Я – уже старый, но Асан… Кстати, и ваш славный захваленный капитан Хворь – тоже Саша. Значит, тоже Асан» [Маканин 2018, 152].
Псевдоисторические изыскания Базанова «объясняют» трансформацию Александра в Асана на звуковом уровне, давая имени идола «правдоподобную» фонетическую мотивацию, тем более что изначально именования связаны посредством анафоры. Все происходит, когда скороговорка и кавказский темперамент «сжирают буквы»: «Сначала, хрустя на каждом слоге, Але-ксы-кса-н-дыр… Затем Аксандр Сергеич… <…> И вот уже по-просто-му – Аксан Сергеич… <…> Но кончается все Асаном» [Маканин 2018, 144]. Проведенная параллель тем более впечатляет, что фонетическая близость имен позволяет генералу предположить обратный процесс, когда имя идола получает вторую жизнь в ономастиконе разных народов: «Разумеется, Асана в нашем времени тоже нет. <…> Осталось имя Ану, перешедшее (предположительно) в имена людей. В имена богов – Асс (у лакцев), Аснцва (у абазин), Ансва (у абхазов)… Осталось Ассиновское ущелье в Чечне <…>» [Маканин 2018, 142].
Имя Асан актуализирует не только значение, приписываемое ему Базановым. Будучи смысловым ядром образов и одним из опознавательных сигналов идейно-тематической структуры текста [Михайлов 1988, 19], Асан обнажает коммерческую сторону «абсурдной» войны, связь крови и денег, обесценивая семантику защиты и самозащиты. Имя главного героя, прочитанное в псевдомифологическом ключе, отражает трагическую многолико сть персонажа, заключенную, в том числе, в системе антропонимов. Если воспользоваться формулой генерала Базанова, то можно сказать, что «против Александра был выставлен свой Александр» [Маканин 2018, 149].
Различные имена и их формы, распределенные по голосам персонажей, выражают отношения дружбы, уважения, отчужденности, откровенной неприязни, которые в совокупности служат характеристике образа и раскрытию авторского замысла. В ситуации с Маканиным сложность заключается в принципиальной невозможности четкого распределения высказываний по наррато-рам. По наблюдениям Т.Г. Кучиной, «неопределенность субъекта наррации» – основа маканинского письма» [Кучина 2011, 85].
В «Асане» различные «точки зрения» уживаются в пределах одного образа. Это утверждение, в первую очередь, касается образа майора Жилина, в решении которого изменчивость повествовательных планов создает многоуровневый синтетический характер, а нарративные полномочия обретают имена героя. Выразительна сцена разговора майора Жилина с чеченскими стариками, просившими «сдать Хворостинина»: «Комедию я должен был играть. Мое имя обязывало, и я сейчас был не я, а Сашик. А Сашик не мог выгнать их пинками и криком… Сашик человек достойный, и Сашик должен был говорить о жутковатом деле – как о деле. <…> Иначе бы уже завтра старики перестали Сашика уважать» [Маканин 2018, 179]. Показательны также размышления о головокружительной «военной карьере», доверенные сразу нескольким нарраторам: «Был здесь и майором, и просто Александр Сергеевичем, и Сашиком был, а вот уже Асан. На вершине, можно сказать, кавказской славы, а?.. – подумалось майору. Пустячок, разумеется, однако о пустячке майору Жилину думалось приятно. (Не скрою, мне было приятно)» [Маканин 2018, 464].
Подобная повествовательная стратегия имеет глубокие корни в традициях русской литературы. Как показывают современные исследования, уже «в пушкинском тексте нарратор незаметно переступает границу между гетеронарра-тивным рассказыванием о герое как “другом” среди “других” <…> и автонар-ративным переживанием самого героя» [Тюпа 2019, 19].
Внутренний мир персонажа по-своему организует многосложный набор имен, каждое из которых отражает какую-то ипостась личности. Концептуальные для героя ценности тоже маркированы именами. В рамках рассматриваемой антропонимической подсистемы особенно значима оппозиция, связанная с долгом офицера и денежными интересами. Набор качеств русского воина закрепляется за «майором Жилиным», не случайно свое «я» герой связывает с этим именованием. Именно так он представляется в романе: «Майор Жилин – это я» [Маканин 2018, 14]. Местоимение «я», как и многочисленные имена персонажа, оттеняет противоречивость его представлений о себе и отсутствие единогласия в оценке окружающих.
Коммерческие мотивы заданы другими именами героя. Это обстоятельство не единожды декларируется текстуально: «Майор торговался холодно. Майору не нужна их жалкая рублевая мелочовка, но она нужна Асану» [Маканин 2018, 467]. В сцене сна на разморенного усталостью и коньяком героя «птица-божество» Асан обрушивает «сладчайшую печаль», притупляя чувство долга и «усыпляя» качества, издревле свойственные русскому воинству: «Засни, храбрый воин… Засни, засни, майор Жилин…» [Маканин 2018, 62]. Но проблема героя в том и состоит, что усыпить совесть у него не получается. Отсюда уничижительно-презрительное отношение к собственному торгашескому умению («талантишко») и желание рассказать отцу, как «неожиданно и, пожалуй, даже невольно» превратился в человека, умеющего делать деньги, чего потомственные строители никогда не умели: «Со временем я объясню моему старику, что у меня, у майора Жилина, работающего (и воюющего!) в
Чечне, вовсе НЕ шальные и НЕ легкие деньги. Не в казино и не на скачках…» [Маканин 2018, 127].
Пара антропонимов Сашик-Асан, очевидно связанная семантикой защиты, неявно актуализирует значение не так денег, как смерти. Не случайно забытого идола вспоминают чеченские старики перед кончиной, а в качестве модного позывного звучит угрожающее «Асан хочет крови» [Маканин 2018, 381]. Многосложность образа майора Жилина связана с текучестью, неустойчивостью именований, актуализирующей конфликт между тем, кем герой хотел бы видеть себя, каким он является в действительности и как его воспринимают друзья и недруги. Именования героя, одновременно ориентированные на прославленных в истории полководцев и двуликий мифологический образ, создают ситуацию семантического конфликта, предопределяя романную участь персонажа.
Имена Сашика и Асана актуализируют также мотивы игры и торга, которые не только характеризуют образ, но и реализуют тему странной войны, где все продается и все имеет цену, и где «товар – люди» [Маканин 2018, 25].
В условиях военного противостояния герой играет роль бензинового короля, делая все, чтобы «покупатели с победителями сторговались». И хотя майору очевидна абсурдность происходящего («комедия», «балаган», «цирковой номер»), ради хрупкого «равновесия войны» он готов быть «в образе»: «<…> Я это я, но внутри их тысячелетнего торга. Внутри тысячелетней горской реальности. На чужом базаре. <…> Быть и оставаться Сашиком мне было важно не из игры, не из тщеславия… Из необходимости» [Маканин 2018, 180].
Модуляции имен Сашик-Асан способствуют многочисленные фонетические варианты уменьшительной формы имени, по большей части вложенные в уста чеченских стариков: Са-аша, Са-аааша, Са-шик, Са-ашик, Са-аашик, Са-аа-ашик, Са-аааашик. И еще более определенно: Саша Асан, Сашик Асан. Похожую трансформацию переживает имя и отчество героя: Аксандр Сергеевич, Аксан Сергеевич, Асан Сергеевич. Подобные изменения подчеркивают концептуальную рассогласованность обозначающего и обозначаемого, становясь важным оценочно-смысловым инструментом повествования.
В именовании майора Жилина родными и друзьями мало разнообразия и совершенно отсутствуют модуляции. Это ситуация, когда сущность Жилина и его имя совпадают или почти совпадают. Он Сашик для жены и отца, сослуживцев Гусарцева, Хворостинина и Василька, так по-отечески называет его генерал Базанов. Неверному другу Костыеву принадлежит ласково-фамильярное Саня, никем в романе больше не употребляемое.
Сразу несколько имен из антропонимикона главного героя пребывают в поле русской культуры. Исследователи уже обращали внимание на связь рассказа Маканина «Кавказский пленный» с кавказским текстом русской литературы [Вершинина 2009; Семенова 2013; Шаройко 2017 и др.]. Художественная генеалогия главного героя романа «Асан» тоже вписана в указанный контекст. При этом «паспортное» имя персонажа апеллирует сразу к нескольким литературным образцам. Имя и отчество майора Жилина через ассоциации с Пушкиным связано с традициями романтической поэмы «Кавказский пленный» и одноименного произведения Лермонтова. Прием весьма остроумный, учитывая тот факт, что герой поэмы Пушкина, как и Лермонтова, безымянный. Фамилия Жилин, особенно в связке с фамилией его друга Костыева, актуализирует толстовскую литературную традицию. Эту же преемственность демонстрирует упоминание майором имени другого известного толстовского персонажа, приобретающего в его речи максимально обобщенный характер: «Не люблю и этот обязательный нынче телевизионный кадр, когда очередной застреленный Хаджи Мурат растерзан, валяется на земле <…> но лицо непременно на самом виду» [Маканин 2018, 87].
Погруженность именований главного героя в гущу русской классики и сведение в одном антропониме имен нескольких литературных предшественников является одновременно знаком сопричастности с потенциалом известных художественных типов и обозначением тенденции к сущностным изменениям в прочтении образов. Так, противоречивость маканинского персонажа, а также тема свободы восходят к романтическим традициям Пушкина и Лермонтова, тогда как толстовская линия обнаруживается в трактовке темы дружбы и предательства, мужества и силы духа, уместности жалости и милосердия на войне, плена и коммерческих интересов. Отсутствие психологического анализа как одна из доминантных особенностей поэтики тоже преемственно связана с произведением Толстого. Именной уровень служит реализации темы войны через подключение к кавказскому тексту русской литературы в самом широком его понимании. В целом создается характерная для произведений постмодернизма установка на литературную игру, нацеленную на полемическое или новаторское прочтение традиции.
Фамилия героя в связке с указанием на офицерское звание, майор Жилин, – центральный элемент в системе антропонимов романа и подсистеме имен главного действующего лица. Как уже упоминалось, это форма само-представления героя, так он чаще всего определяет собственное «я», и, что очень важно, эта формула – знак авторского отношения. Автохарактеристика важна как форма самопрезентации, включающей в себя помимо стремления произвести на других впечатление, демонстрацию мыслей и характера [Майерс 1997, 123–124], и как особый уровень прочтения образа и романной ситуации: герой расценивается как преемник исторически доказанного мужества и благородства русского воинства. Образ Жилина не может быть исчерпан указанными свойствами, но сложно, многопланово и контрастно перекликается с традицией. Антитетически организованная подсистема имен героя полярно распределена между майором Жилиным и Асаном, к которым тяготеют другие элементы повествовательной структуры. Каждое из его имен получает значимость лишь при соотнесении с концептуальными центрами подсистемы.
Семантически неоднородные комплексы образуют варианты формулы «майор Жилин». Одна из таких редакций, «майоришка Жилин» (5 словоупотреблений), возникает как результат появления в нарицательном существительном суффикса субъективной оценки со значением пренебрежительности и уничижительности и принадлежит самому герою. Представленная в несобственно-прямой речи как потенциальная или реальная оценка окружающих (генерал Базанов, полковники Фирсов, Федоров, Дубравкин, Джохар Дудаев), имя служит сигналом внутреннего неблагополучия персонажа и несовпадения с идеальными представлениями о русском офицере.
Жилин в целом – герой несовпадающий. Не совпадает его собственное и размноженное в сознании окружающих «я», бесконфликтно герой не совпадает с правилами игры под названием «война», не совпадает ни с одним из своих литературных предшественников, не совпадает с собственным представлением об облике русского офицера. Своеобычность ни на кого не похожего, уникального в своей неповторимости-несовпадении героя подтверждает разветвленная система его имен.
Комбинациями имени, указывающими на звание, являются «товарищ майор» (21 словоупотребление) и «майор» (29 словоупотреблений). Первое звучит из уст контуженных солдат и помощника по складу Крамаренко, второе распределяется между разными, в том числе, эпизодическими персонажами, среди которых солдатские матери, безымянные «штабисты» и «фээсовские проверяльщики». Есть в романе и разговорно-обиходное «дяинька майор» (2 словоупотребления), принадлежащее малолетнему сыну погибшего полевого командира.
Именование героя по фамилии не так многочисленны, как другие антропонимы, зато семантически декларативны, особенно в сочетании с оценочными существительными: «деляга Жилин», «барыга Жилин». Интертекстуальная составляющая фамилии в связке с этимологией слова «жилы» рождает сложный семантический комплекс, расширяющий идейно-художественное пространство произведения за счет смысловых доминант имени, где меркантильные интересы и стяжательство сочетаются со значениями жизненной силы и крепости.
Согласно данным этимологических словарей «жила» – «общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и глагол жити (giti) в значении “двигаться”. Исходное значение этого существительного – “расположенное под землей русло, по которому течет родник”, затем произошло переосмысление – “кровеносный сосуд”, а впоследствии – “сухожилие, нерв”. Родственные слова: жить, жидкий» [Этимологический словарь 2005, 134]. В русском языке XI–XVII вв. слово имело значение «жила; сила, бодрость, крепость», а в обиходно-просторечном словоупотреблении – «скупой, прижимистый человек, скряга» [Этимологический словарь 2010, 272]. Не случайно майор Жилин в романе также «складарь» и «шеф». Различные смысловые оттенки имени реализуются в зависимости от того, какие обертоны значения актуализируются во взаимосвязи с другими элементами и уровнями художественного произведения.
Таким образом, антропонимы романа Маканина «Асан» как значимый элемент художественного целого способствуют пониманию сюжетно-композиционного и образного уровня произведения, имплицитному выражению идейного содержания и авторской позиции. Сложно и многообразно взаимодействуя в пространстве текста, имена персонажей образуют стройную систему, соотносимую с уникальной картиной мира писателя и особенностями его идиостиля.
Список литературы Система антропонимов романа В.С. Маканина "Асан"
- Аннинский Л. А. Структура лабиринта. Владимир Маканин и литература «серединного» человека // Локти и крылья: литература 80-х: надежды, реальность, парадоксы. М.: Советский писатель, 1989. С. 238-258.
- Вершинина М.А. Классика и современность в рассказе В.С. Маканина «Кавказский пленный» // Актуальные проблемы литературоведения. 2009. № 5(39). С. 174-177.
- Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии / под ред. В.И. Буганова и Б.В. Лепшина. М.: Наука, 1974. 382 с.
- Кучина Т.Г. «Я» и «не я» в повествовательной структуре романа В. Маканина «Асан» // Филологический класс. 2011. № 1(25). С. 83-85.
- Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 1997. 252 с.
- Маканин В.С. Асан. М.: Издательство «Э», 2018. 480 с.
- Михайлов В.Н. О специфике литературной ономастики // Вопросы стилистики: Стилистика художественной речи. Вып. 22. Саратов: Саратовский государственный университет, 1988. С. 3-19.
- Никонов В. А. Имя и общество. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1974. 278 с.
- Семенова А. Д. М.Ю. Лермонтов и В.С. Маканин: трансформация кавказского сюжета и реализация мифологемы горы в творчестве писателей // Уральский филологический вестник. 2013. № 1. С. 152-158.
- Суперанская А.В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание. М.: Айрис-пресс, 2005. 384 с.
- Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб.: типография И.Н. Скороходова, 1903. 857 с.
- Тюпа В.И. Пограничные состояния в литературном нарративе // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 2. С. 10-18.
- Флоренский П.А. Сочинения: в 4 т. Т. 3(2) / Сост. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой; ред. игумен Андроник (А.С. Трубачев). М.: Мысль, 2000. 624 с.
- Шаройко М.В. Рассказ В. Маканина «Кавказский пленный»: трансформация литературных доминант традиционного мотива // Наследие веков. 2017. № 1(9). С. 4649.
- Этимологический словарь русского языка / сост. Г.А. Крылов. СПб.: Полигра-фуслуги, 2005. 432 с.
- Этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. Т. 1 / сост. А.К. Шапошников. М.: Флинта: Наука, 2010. 584 с.