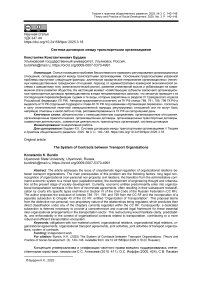Система договоров между транспортными организациями
Автор: Бурдин К.К.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме бессистемности правового регулирования организационных отношений, складывающихся между транспортными организациями. Основными предпосылками указанной проблемы выступают следующие факторы: длительное юридическое непризнание организационных (неличных неимущественных) гражданских отношений, переход от административно-командной экономической системы к смешанному типу (капиталистический рынок), развитие инженерной мысли и урбанизация на современном этапе развития общества. На настоящий момент хозяйствующие субъекты заключают организационные транспортные договоры преимущественно в виде непоименованных законом, что зачастую приводит к их последующей переквалификации судами в те виды, которые закреплены в разделе IV Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Автором предлагается исключить из ГК РФ статьи 788, 791, 798, 799 ГК РФ и выделить в ГК РФ отдельный подраздел к главе 40 ГК РФ под названием «Организация перевозок», поскольку в силу отличительной неличной неимущественной природы регулируемых отношений они не могут быть напрямую отнесены к какой-либо из глав, регламентированных в ГК РФ на сегодняшний день.
Обязательства с неимущественным содержанием, организационные отношения, организационные правоотношения, организационные договоры, организационные транспортные договоры, совместная деятельность, совместная деятельность транспортных организаций, система договоров
Короткий адрес: https://sciup.org/149148262
IDR: 149148262 | УДК: 347.44 | DOI: 10.24158/tipor.2025.3.18
Текст научной статьи Система договоров между транспортными организациями
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия, ,
,
(1877: 53), И.А. Покровский (1998: 44) и др. Руководствуясь данными идеями, рабочая группа по подготовке части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1 сформулировала легальную систему гражданско-правовых договоров. В юридическом сообществе сложилось общее представление, согласно которому система договоров имеет два уровня: поименованные и непоименованные. Договоры, закрепленные в разделе IV ГК РФ «Отдельные виды обязательств», являются поименованными. Договоры, отличные от предложенных в разделе IV ГК РФ, считаются непоименованными (смешанными) в силу фундаментальных принципов гражданского права, отраженных в положениях статей 1, 8, 421 ГК РФ.
Необходимость существования смешанных договоров состоит в том, что в связи с развитием общества стремительно возрастает количество разновидностей общественных отношений во всех сферах жизнедеятельности, в то время как законодательство не всегда успевает за этой уверенной динамикой (Борзенко, 1875: 19). В такой ситуации на помощь хозяйствующим субъектам расчетливо приходит диспозитивный метод гражданско-правового регулирования, который через принципы свободы договора и автономии воли сторон наделяет субъектов гражданского права возможностью оформлять правоотношения между собой в свободной форме, какой ее видят сами их участники.
Свободная форма договорной конструкции включает в себя два основных компонента: наименование договора (внешний компонент) и его условия (внутренний компонент: субъектный состав, содержание договора, направленность будущего договорного обязательства, а также последствия, к которым стремятся контрагенты). Каждый из этих двух компонентов, которые в своей совокупности образуют индивидуальную конструкцию каждого отдельно взятого договора, стороны вправе сформулировать соответствующим их воле образом в законных рамках.
Именно таким «вольным» способом на сегодняшний день и заключается большая часть договоров о совместной деятельности, особенно в области перевозочного процесса. Исследуя договоры между транспортными организациями, мы ведем речь прежде всего об их совместной деятельности (об организационных отношениях). Целесообразно говорить о существовании лишь двух форм совместной деятельности – с образованием (корпоративные) и без образования юридического лица (договорные). К корпоративной форме совместной деятельности относятся (закрытый перечень): полные и коммандитные товарищества, производственные кооперативы (артели), потребительские кооперативы, а также учредительный и корпоративный договоры. К договорной форме относится множество различных договоров о совместной деятельности (реализация совместных проектов, совместная деятельность в сфере науки и образования, в области транспорта и т. д.), в том числе договоры простого товарищества. Настоящее исследование затрагивает именно договорную форму.
Как отмечает Т.Н. Иванова, единственной защищенной диссертацией на тему договоров о совместной деятельности на транспорте является исследование Д.С. Федотовой2. На неразре-шенность проблемы прежде указывал и С.Ю. Морозов (2011), который определяет хаотичное состояние договорного регулирования совместной деятельности, т. е. отсутствие должной системы организационных договоров, в частности, между транспортными организациями, как следствие недостаточного внимания ученых к указанной проблеме.
Длительное непризнание подобных обязательств, относительно недавний отказ от плановой экономики3, стремительный рост рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры (Андреев, 2005: 7), развитие инженерной мысли, урбанизация городов; увеличение числа транспортных организаций в сфере обеспечения перевозочного процесса, их активная конкурентная борьба и сотрудничество между собой за место на капиталистическом рынке (Кирсанов, 2017: 637) – все это в совокупности выступило предпосылками сложившейся бессистемности, разрозненности права в части договорного регулирования организационных отношений на транспорте.
Непоименованные договоры – это лишь временная мера по решению проблемы. Важно отметить, что данная мера сталкивает участников правоотношений с проблемой последующей переквалификации заключенных договоров в судебном порядке на основании статей 6 и 431 ГК РФ в поименованные виды договоров, которые закреплены в ранее упомянутом разделе IV ГК РФ (о подобной возможности ограничения договорной свободы говорил еще, например, Я.А. Кан- торович (1928: 52)). Этим вызывается цепная реакция по возникновению иных, не менее серьезных проблем: невозможность адекватно спрогнозировать правовые последствия от вступления в правоотношения на базе подобных «вольных» договорных конструкций, подрыв авторитета органов государственной власти, снижение уровня уважения общества к праву и т. п.
Е.Г. Комиссарова верно отмечает, что предложенная в разделе IV ГК РФ система поименованных договоров охватывает абсолютное большинство имущественных отношений, в связи с чем создаваемые участниками гражданского оборота новые их разновидности зачастую не имеют смысла и потому переквалифицируются в судебном порядке под те виды и подвиды договоров, которые уже регламентированы законом1. Тем не менее правоотношения, закрепленные договорами о совместной деятельности (равно организационными договорами), всегда возникают из обязательств с неимущественным содержанием (неличные неимущественные отношения), т. е. безвозмездных договоров, конечным результатом которых является не передача должником имущества в пользу кредитора или третьего лица, а такое качественно иное благо, ценность которого выражается не в деньгах или вещах, хоть и может быть косвенно связано с ними. Следовательно, именно эти неличные неимущественные гражданские обязательства и выступают базой для построения системы организационных договоров, в т. ч. в сфере транспорта.
Аргументы в пользу юридического признания обязательств с неимущественным содержанием и возникающих на их основе организационных правоотношений были ранее раскрыты нами в статье «Обязательства с неимущественным содержанием: о необходимости юридического признания» (Бурдин, 2024а: 193).
Здесь лишь кратко поясним, что основные различия между имущественными и неимущественными обязательствами заключаются в следующем: обязательство с неимущественным содержанием, связанное с имущественным оборотом (также существует вид несвязанных), направлено на обеспечение возникновения и (или) исполнения иного (имущественного, корпоративного, личного неимущественного) обязательства, является безвозмездным и по своей сути выполняет служебную роль в становлении и (или) реализации стороннего, но теснейшим образом связанного с ним обязательства. Соответственно, включение организационных договоров в классификационную группу организуемых договоров является в корне неверным подходом в силу различий регулируемых ими отношений.
Подчеркнем, что не следует недооценивать организационные договоры. Еще в 1966 г. О.А. Красавчиков, существенно дополнив труды его предшественников ‒ Е.В. Пассека (1893: 16), В.И. Голевинского (1872: 9), И.Б. Новицкого (Новицкий, Лунц, 1950: 59), И.А. Покровского (1998: 137) и ряда других, ‒ принципиально обратил наше внимание на необходимость разграничения отношений на организуемые и организационные и объективную невозможность существования первых без вторых (Красавчиков, 1966: 56). С.С. Алексеев согласился, добавив, что «...организационные отношения могут быть найдены в любой отрасли права» (Алексеев, 1971: 58). Позднее идею поддержал В.А. Егиазаров, отметив, что на практике заключение и исполнение договора перевозки непременно требуют согласования сторонами организационных вопросов2. С.Ю. Морозов справедливо дополнил, что от степени слаженности работы транспортных организаций, которая формируется благодаря организационным транспортным договорам, зависит как безопасность движения, так и оперативность доставки пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, почты (Морозов, 2011).
Далеко не все лица обладают таким колоссальным количеством имущественных и (или) трудовых ресурсов, чтобы иметь возможность обойтись без помощи другого лица, выполнив перевозочный процесс от начала и до самого конца полностью самостоятельно, поэтому хозяйствующие субъекты нуждаются в совместной деятельности, которая не может существовать без организационных договоров. Представим себе типичную ситуацию: индивидуальный предприниматель хочет продать бывший в употреблении трактор, который ему больше не нужен, и ему поступает предложение о покупке от крестьянского (фермерского) хозяйства по выгодной для него цене при условии, что покупатель не будет заниматься доставкой, погрузкой/разгрузкой и прочими организационными вопросами. Изучая вопрос транспортировки, продавец узнает, что точка со складом покупателя находится в труднодоступной сельской местности, в которую привезти сельскохозяйственную технику самостоятельно ему не удастся, особенно в сезон дождей. Тогда он обращается к компании-партнеру, с которой сотрудничает на безвозмездных началах по ряду общих проектов, и последняя соглашается выполнить эту организационную часть работы за него ‒ построить маршрут (путь следования), решить вопрос оснастки спецтехники дополнительным оборудованием для свободной езды по подобной местности, найти подходящего водителя и договориться с ним об условиях поездки. Здесь можно привести множество других примеров:
доставка различными видами транспорта; взаимодействие с транспортными операторами и владельцами транспортных инфраструктур; необходимость использования специальной дорогостоящей техники с соответствующим экипажем для выполнения работ по погрузке/разгрузке груза; перевозка особых грузов (например, опасных отходов для их дальнейшей утилизации) и т. п.
Применительно к перевозочному процессу на настоящий момент существует лишь четыре правовые нормы, направленные на регламентацию договоров о совместной деятельности транспортных организаций, – это статьи 788, 791, 798, 799 ГК РФ, которые не совсем корректно внесены непосредственно в текст главы 40 ГК РФ «Перевозка» (также к организационным договорам в сфере перевозочного процесса отчасти относятся положения главы 55 ГК РФ «Простое товарищество»). Эта неточность заключается в двух аспектах: в смешивании организационных (неличных неимущественных) и организуемых (имущественных, корпоративных, личных неимущественных) обязательств; в неполноте указанных норм. Неполнота выражается в том, что каждая норма охватывает лишь малую часть тех отношений, для регулирования которых она изначально предполагалась при ее создании.
В частности, статья 788 ГК РФ является единственной нормой, посвященной организации правоотношений при перевозке пассажиров, но при этом она затрагивает исключительно прямое смешанное сообщение и ссылается на закон, который по-прежнему не принят и не вступил в силу.
Статья 791 ГК РФ регламентирует возможность перевозчика и отправителя вступать в организационные правоотношения по подаче, погрузке и разгрузке грузов и тем самым позволяет «...упорядочить деятельность сторон в рамках данного правоотношения» (Морозов, 2009: 42). При этом не упоминаются те же работы с багажом, грузобагажом и почтой.
Статья 798 ГК РФ закрепляет возможность транспортных организаций заключать долгосрочные (рамочные, «взаимоотношения на перспективу» (Кирсанов, 2004: 60)) организационные договоры перевозки грузов (т. е. договоры, направленные на систематическую совместную деятельность по приему-передаче грузов). Перевозка багажа, грузобагажа и почты в норме почти не упоминаются.
Статья 799 ГК РФ в действующей редакции отражает лишь небольшую часть совместной деятельности организаций по обеспечению перевозочного процесса. Во-первых, не упоминается возможность осуществления подобной деятельности на различных видах транспорта. Во-вторых, из перечисленных в норме разновидностей договоров становится ясно, что правовое регулирование ограничивается совместной деятельностью лишь между перевозчиками, при этом совсем не упоминаются иные субъекты перевозочного процесса, входящие в понятие «транспортная организация»: владельцы транспортных инфраструктур (инфраструктурные услуги), а также транспортные операторы (услуги по управлению перевозками)1. В-третьих, в статье совсем не говорится об отношениях по обеспечению перевозок пассажиров. А.В. Комаров справедливо утверждал, что зачастую для своевременной и безопасной доставки из пункта А в пункт Б требуется как минимум несколько видов транспорта (Комаров, 2000: 2). В-четвертых, из содержания статьи остается неясным, что понимается под «организацией работы по обеспечению перевозки грузов», поскольку отсутствует легальное определение перечисленных образцовых договоров данного вида. В-пятых, помимо багажа, в перечень не включены грузобагаж и почта.
Как указывает В.В. Витрянский, на настоящий момент, в силу положений статьи 1041 ГК РФ, сложилось не самое верное представление о договоре простого товарищества, по которому такой договор является единственным видом договора о совместной деятельности (эквивалентные понятия) (Брагинский, Витрянский, 2006: 6). Автор отмечает, что одним из аргументов в пользу существования иных договоров о совместной деятельности служит, например, учредительный договор (Брагинский, Витрянский, 2006: 6).
Еще в 1915 г. В.И. Синайский впервые в науке частного права указал на необходимость разграничения товариществ на те, которые ограничиваются лишь внутренними отношениями между товарищами (простые товарищества), и те, которые вступают в общение и во внешних отношениях, с третьими лицами (полные и неполные, по участкам) (Синайский, 1915: 186). Также автор указал, что в римском праве понятие простого товарищества (societas2) было настолько обширным и обладало такими абстрактными свойствами, что позволяло относить к нему не только договор простого товарищества, но и иные, «нетипичные», договоры о совместной деятельности. В частности, как и сейчас, договор простого товарищества предполагал, в том числе, и возможность его участников сохранять свою самостоятельность (автономный статус) и реализовывать совместные проекты на взаимовыгодных, но при этом безвозмездных началах (без объединения вкладов и с неимущественной целью).
Развивая идею В.И. Синайского, М.В. Гордон (1954: 82) и В.Ю. Вольф (1928: 36) указали на необходимость регулирования подобных отношений особой группой договоров, включающей в себя множество различных договорных конструкций. Б.И. Пугинский отмечал, что «...объективное существование правовых явлений совершенно не зависит от того, урегулированы они законом или нет»1. Конструкции эти имеют право на свое обособленное от договора простого товарищества существование в силу потребностей участников гражданских правоотношений, которые весьма разнообразны и постоянно развиваются.
Вышесказанное свидетельствует о необходимости выделить в действующем гражданском законодательстве отдельное место организационным договорам, в т. ч. в сфере перевозочной деятельности. Сделать это возможно через включение организационных договоров в систему поименованных договоров, регламентированную разделом IV ГК РФ, путем их внесения в подразделы к соответствующим главам ГК РФ. В таком случае следует перенести статьи 788, 791, 798, 799 ГК РФ в уточненной редакции в новый подраздел к главе 40 ГК РФ под названием «Организация перевозок», в содержание которой предлагается включить основные разновидности подобных договоров, включая (но не ограничиваясь): договоры между владельцами транспортных инфраструктур, договоры между владельцами транспортных инфраструктур и транспортными операторами, договоры между владельцами транспортных инфраструктур и перевозчиками, соглашения об организации прямого смешанного сообщения, узловые соглашения, договоры на централизованный завоз и вывоз грузов, договоры о предъявлении груза к перевозке, договоры код-шеринга, договоры об организации перевозок, договоры об организации транспортно-экспедиционного обслуживания, договор простого товарищества.
К схожему выводу относительно пути решения проблемы по систематизации договоров о совместной деятельности транспортных организаций ранее пришел С.Ю. Морозов, предлагавший, тем не менее, еще более кардинальный подход ‒ объединить все организационные договоры на транспорте в отдельный раздел ГК РФ «Организация перевозок» (Морозов, 2012: 155). То есть не просто выделить под эту группу договоров один отдельный подраздел или же ряд подразделов к главам в рамках раздела IV ГК РФ, но даже выйти за его пределы и регламентировать эти договоры в отдельном разделе ГК РФ, что обусловлено неповторимыми и исключительными особенностями неличных неимущественных обязательств. Соглашаясь с С.Ю. Морозовым в той части, что организационные договоры являются кардинально отличными от договоров организуемых, дополним, что, по нашему мнению, они все равно остаются по своей сути обязательствами, поэтому при их систематизации не следует выходить за границы раздела IV ГК РФ.
К.П. Победоносцев обоснованно считал, что при построении классификации отдельных обязательств важно не только воссоздать полноту этой новой классификации, но и сделать ее гармоничной в рамках уже существующей законодательно-видовой градации договоров, т. е. воссоздать ее такой, чтобы она не вызвала новых, еще больших законодательных противоречий (при подготовке законопроектов необходимо ставить вопрос, не ухудшат ли предлагаемые нормы текущее состояние законодательной базы) (Победоносцев, 2003: 309). К тому же, как известно из истории, всякая необдуманная спешка чревата ошибками и беспорядком. Предлагаемый нами подход по систематизации организационных договоров посредством введения соответствующих подразделов к главам ГК РФ, посвященных организуемым договорам, обусловлен неисчерпаемым количеством разновидностей организационных договоров (Бурдин, 2024а: 193), ввиду чего сиюминутно посвятить им отдельную единую главу ГК РФ на настоящий момент все еще затруднительно, хотя и представляется целесообразным в будущем.
Решение исследуемой проблемы через создание в разделе IV ГК РФ отдельной главы «Организационные договоры» на первый взгляд может показаться более рациональным и, на наш взгляд, таковым и является, поскольку в силу отличительной неличной неимущественной природы регулируемых отношений они не могут быть полноценно отнесены к какой-либо из глав, ныне регламентированных в ГК РФ. Тем не менее, если сделать это одномоментно, то ответом на поставленный К.П. Победоносцевым вопрос будет скорее нанесение частному праву вреда, а не пользы. Следует вспомнить и позицию В.Д. Спасовича, сводящуюся к формуле «поспешность в законодательстве всегда губительна» (Спасович, 1890: 355), которая сквозь годы по-прежнему напоминает нам о том, что все новшества следует вводить постепенным, т. е. «негубительным» методом. Анализируя отечественную и зарубежную классику цивилистической науки, обратим внимание, как большинство исследователей в результате своих многолетних трудов приходят к одному и тому же выводу о важности пошаговых, а не сиюминутных изменений, т. е., иными словами, в основе любой реформы должен лежать анализ потребностей современного общества (Морозов, 2011: 30) и обязательно должен быть учтен богатый опыт, перенятый от выдающихся деятелей прошлого. Потому в рассматриваемом случае, как и в случае с разработкой великорус- ского гражданского уложения при участии В.Д. Спасовича, уместна обдуманная и поэтапная законотворческая работа в рамках поставленных разумных сроков (Спасович, 1890: 335).
По нашим соображениям, перед названием нового подраздела должен быть отражен качественно новый признаваемый вид обязательства ‒ неличное неимущественное (организационное), затем ‒ сфера его действия (наименование основной главы) ‒ перевозки. В результате получаем: «Организация перевозок».
Грамотное построение любой подсистемы договоров требует фиксации квалифицирующих признаков ее элементов – договоров. Как было отмечено выше, отличительность всякого договора состоит в следующих ключевых моментах: наименование договора, субъектный состав, содержание договора, направленность будущего договорного обязательства, а также последствия, к которым стремятся контрагенты.
Название договора создает первое впечатление о нем, позволяет даже без прочтения преамбулы сделать верное предположение по поводу его содержания, поэтому подходить к выбору наименования следует соответствующе, используя широчайший инструментарий богатого русского языка. В нашем случае название должно вызывать понимание, что речь идет об организационных (неличных неимущественных) отношениях между транспортными организациями (участниками этих договоров), под которыми следует понимать зарегистрированных в установленном законодательством порядке лиц, непосредственно осуществляющих перевозку (перевозчиков), либо способствующих осуществлению перевозки (владельцев транспортных инфраструктур, оказывающих инфраструктурные услуги; транспортных операторов, оказывающих услуги по управлению перевозками) в рамках перевозочного процесса. При этом в качестве транспортной организации могут выступать публично-правовые образования, юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане (Бурдин, 2024б: 6).
Содержание организационного транспортного договора раскрывается в правах и обязанностях его сторон. По нашему убеждению, по этому виду договора стороны принимают на себя обязательство в осуществлении на безвозмездных началах совместной деятельности (объединении своих имущественных и (или) трудовых ресурсов) с целью организации заключения и (или) исполнения транспортного организуемого (имущественного) договора. Из представленного определения раскрывается направленность организационного договора (обеспечение имущественного обязательства) и те последствия, к которым стремятся участники (договориться о правилах исполнения будущих или уже существующих обязательственных правоотношений) (Бурдин, 2024а: 195).
М.Ф. Казанцев утверждал, что всякий договор имеет регулятивную природу1. По сути, легализация договоров о совместной транспортной деятельности преследует одну основную цель (интегративное свойство исследуемой договорной системы) – признать и урегулировать фактически складывающиеся организационные общественные отношения, направленные на обеспечение организуемых отношений на транспорте (преобразовать отношения в правоотношения). Одна из главных задач, позволяющая достичь установленной цели, – поименовать организационные транспортные договоры в разделе IV ГК РФ.
Единого правового основания для деления договоров на виды в законодательстве не существует. Для того, чтобы представить организационные транспортные договоры в виде системы, необходимо выбрать главный критерий, который будет составлять ее ядро, а именно ‒ направленность организационного договора на обеспечение интересов (т. е. на обеспечение удовлетворения чьих интересов направлен договор). Критерий направленности системы договоров на результат в качестве основополагающего ранее выделялся, в частности, О.А. Красавчиковым (1960: 42‒43) и Д.С. Федотовой (2019: 129‒130).
В таком случае система организационных договоров на транспорте является двухуровневой, где первый уровень связан с обеспечением интересов перевозчика, а второй уровень – пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей и грузовладельцев.
Таким образом, к первой группе договоров (направленных на обеспечение интересов перевозчика) мы отнесем следующие:
-
‒ организационные договоры между владельцами транспортных инфраструктур;
-
‒ организационные договоры между владельцем транспортной инфраструктуры и транспортным оператором;
-
‒ организационные договоры между владельцем транспортной инфраструктуры и перевозчиком.
Перечисленные виды договоров направлены на организацию заключения и исполнения имущественных договоров на оказание услуг: по предоставлению транспортной инфраструктуры в пользование, по предоставлению в пользование подвижного состава, по пересадке пассажиров, по перевалке грузов и т. п. Стоит отметить, что к данной группе договоров относится в т. ч. и договор простого товарищества.
В данном случае вторая группа договоров (направленных на обеспечение интересов пассажира, грузоотправителей и грузополучателей, грузовладельцев) включает в себя следующие виды договоров:
-
• соглашения об организации прямого смешанного сообщения;
-
• узловые соглашения;
-
• договоры на централизованный завоз и вывоз грузов;
-
• договоры о предъявлении груза к перевозке;
-
• договоры код-шеринга;
-
• договоры об организации транспортно-экспедиционного обслуживания;
-
• договоры простого товарищества.
Вышесказанное позволяет прийти к следующим выводам:
-
1. Структура системы организационных транспортных договоров включает в себя две подсистемы договоров: направленные на обеспечение интересов перевозчика и направленные на обеспечение интересов пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей и грузовладельцев.
-
2. Предложения по корректировке законодательства:
-
2.1. В настоящее время договорное регулирование совместной деятельности транспортных организаций производится лишь фрагментарно. Ввиду этого представляется целесообразным исключить статьи 788, 791, 798, 799 из ГК РФ. Взамен них предлагается выделить отдельный подраздел к главе 40 ГК РФ «Организация перевозок», в которой надлежит перечислить основные виды подобных договоров и раскрыть их содержание. Желательно оставить данный перечень открытым.
-
2.2. Представляется верным включить в содержание подраздела к главе 40 ГК РФ «Организация перевозок» следующие нормы:
-
-
1) общие положения о совместной деятельности транспортных организаций;
-
2) договоры между владельцами транспортных инфраструктур;
-
3) договоры между владельцами транспортных инфраструктур и транспортными операторами;
-
4) договоры между владельцами транспортных инфраструктур и перевозчиками;
-
5) соглашения об организации прямого смешанного сообщения;
-
6) узловые соглашения;
-
7) договоры на централизованный завоз и вывоз грузов;
-
8) договоры о предъявлении груза к перевозке;
-
9) договоры код-шеринга;
-
10) договоры об организации транспортно-экспедиционного обслуживания.
В силу своей масштабности вопрос непосредственно структуры перечисленных норм, включаемых в подраздел к главе 40 ГК РФ «Организация перевозок», требует отдельных детальных исследований. Аналогичный вывод о необходимости продолжения исследований заслуживают и вопросы реформирования ГК РФ, касающегося юридического признания неличных неимущественных (организационных) обязательств в целом, которые широко распространены не только в сфере перевозочного процесса, но и в большинстве других областей, обозначенных в разделе IV ГК РФ.