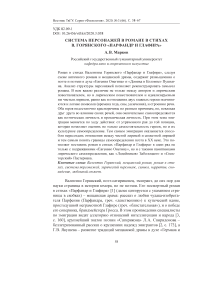Система персонажей в романе в стихах В. Горянского "Парфандр и Глафира"
Автор: Марков Александр Викторович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Роман в стихах Валентина Горянского «Парфандр и Глафира», следуя схеме античного романа и мещанской драмы, содержит размышления о поэте и поэзии в духе «Евгения Онегина» и «Домика в Коломне» Пушкина. Анализ структуры персонажей позволяет реконструировать замысел романа. В нем важно различие не только между автором и лирическим повествователем, но и лирическим повествователем и идеализируемым им чистым лириком, равно как и отношения двух главных героев подчиняются и логике символов (времена года, сны, увлечения), и строению речи. Оба героя недостаточно красноречивы по разным причинам, но, вовлекая друг друга во влияние своих речей, они окончательно самоопределяются как поэтическая личность и прозаическая личность. При этом тема эмиграции меняется по ходу действия: от утраченного рая до той позиции, которая позволяет оценить не только самостоятельность героев, но и их культурное самоопределение. Тем самым эмиграция оказывается способом пересоздать отношения между чистой лирикой и сюжетной лирикой и тем самым понять границы самоопределения поэта в ХХ веке. Это позволяет поставить роман в стихах «Парфандр и Глафира» в один ряд не только с подражаниями «Евгению Онегину», но и с такими памятниками лирического самоопределения, как «Лодейников» Заболоцкого и «Спекторский» Пастернака.
Валентин горянский, мещанский роман, роман в стихах, система персонажей, лирический персонаж, символ, нарратив, сновидение, любовный сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/146281725
IDR: 146281725 | УДК: 82.09-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.058
Текст научной статьи Система персонажей в романе в стихах В. Горянского "Парфандр и Глафира"
Валентин Горянский, поэт-сатириконец, эмигрант, до сих пор для науки страница в истории юмора, но не поэзии. Его посмертный роман в стихах «Парфандр и Глафира» [1] (далее цитируется с указанием страницы в скобках) – мещанская драма: рассказ о любви чудака-изобретателя Парфения (Парфандра, греч. «девственник») к купеческой вдове, простодушной неграмотной Глафире (греч. «блистательная»), и о победе его соперника, брандмейстера Гросса. В этом произведении специалисты по эмиграции видят аллегорию отношений интеллигенции и народа [3, с. 160], крупнейший знаток поэзии «Сатирикона» Л. А. Спиридонова – беллетризованный рассказ о крушениях надежд эмигрантов [2, с. 173], а Г. В. Якушева – развитие традиций мещанской драмы в духе «Германа и
Доротеи» Гёте наравне с «Молодцем» Цветаевой [4, с. 188]. Мы считаем, что эти интерпретации важны, но недостаточны, и анализ системы персонажей это показывает. Парфандр выступает как alter ego автора, знакомый и двойник, подобно пушкинскому Онегину. Парфандр – современник повествователя поэмы, знающего, что поэму прочтут посмертно: «Ты с мертвецом, а я с живым / Ведем доверенныя речи» (36), сопереживая радости «незаконной встречи» – Парфандра и скорбной вдовы. Таким образом, с самого начала конфигурация оказывается сложной: в отличие от Пушкина, объясняющего в последней строфе своего романа «Иных уж нет, а те далече» (и ссылка на Саади маскирует, что «далече» по делу декабристов), а он сам жив, Горянский исходит из того, что роман прочтут только после его смерти, но все его герои будут восприняты как живые люди. При этом разлуку с Парфандром повествователь понимает как разлуку с собой, превращая образ Нарцисса в образ расставания с собственной сущностью, несмотря на все внимание к деталям:
И у меня был нежный друг…
Я с ним расстался как-то вдруг. –
Должно быть так, склоненный к водам Нарцисс терял свой милый зрак, Когда на воды падал мрак (24)
В результате разлука с героем, иначе говоря, эмиграция автора, тоже подобна если не смерти, то ссылке; появляется пушкинское «далече»: «…Есть – другой / Совсем иной, а я далече» (25).
Хотя действие романа в стихах происходит, судя по всему, до эмиграции автора (прямых примет царского времени в поэме нет, кроме социального статуса героини, в этом смысле она ближе к фольклору или античному роману, где и в устройстве быта ничего никогда не меняется), оказывается, что поэт на уровне метафорического бытия повторяет реальное бытие своего героя: Парфандр – запойный пьяница; «Я так же полон до краев / Моим несовершенством трудным» (25). Получается, что отчаяние и увлеченность поэта, метафорический запой, противостоит нарциссизму, это не уход в небытие, а последняя вспышка страсти перед полным угасанием: «Мы будем с ней друг друга пить / На смерть влюбленные вампиры» (бутылка, как и поэтическое творчество, отнимает все силы), – благодаря этому стала возможна поэма как итоговое произведение автора.
В отличие от пушкинской Татьяны, прототип которой, согласно последней строфе, умер («О много, много Рок отъял!»), так что она осталась как героиня, эстетический факт, Глафира должна быть жива на момент публикации поэмы или по крайней мере восприниматься как обобщенный живой персонаж, не просто современный тип, а вневременной, почти фольклорный. Об этом говорит финальное обращение к читателю: «И без тебя моей Глафире / найдется место в Божьем мире» (139).
Самостоятельность героини, остающейся живым человеком, с которым можно познакомиться, есть и в других романах в стихах, написанных в эмиграции, таких как «Рояль Леандра (Lugne)» Игоря Северянина (1925) и «Университетская поэма» (1926) В. Набокова, которая, хотя и названа поэмой, не меньше подражает пушкинскому образцу в организации разговора с читателем, в необязательных отступлениях о современных вопросах и общей драматургии. Из романов в стихах, написанных в советской стране, это, конечно, «Спекторский» Пастернака, где обе женщины, влюбленные в главного героя, выбирают самостоятельный путь, что еще больше усложняет отношения между эстетическим идеалом и актуальным существованием таких героинь.
Роман в стихах Горянского, уступая литературным качеством всем названным, интересен усложнением образа повествователя, который не считает себя вполне поэтом, напротив, держит всегда перед собой образец чистого лирика. Сам он скорее резонер: «…свидетель точный / Соломенного их огня / И краткосрочности порочной» (31). Чистый лирик описывается с помощью патетических штампов, которые не превращаются в пошлость потому, что вдруг оказываются перенесены в некое курортное существование мирного отдыха и беззаботности, Аркадии и Елисейских полей, но усвоенных как что-то внутреннее, как бытовая привычка существования: «В нем разум с сердцем тихо спят» (35). Повествователь противопоставляет себя идеальному лирику, прежде всего указывая на свою невнимательность и рассеянность; его «нестройных чувств и мыслей ряд» (46) не позволяет рассказать всё как было. Повествователь вместе с Глафирой проспал кульминационную сцену, начало пожара в ее доме, и, указывая, что все люди обычно сонны и любят подольше поспать, замечает, что автор «боле, чем иной / Пленен был сонной глубиной» (104). Иначе говоря, повествователь слабее среднего читателя, потому что сонлив и рассеян, тогда как чистый лирик может служить поставщиком метафор, но непосредственно наблюдать сцены со своего елисейского курорта не может.
Сюжетный треугольник романа Горянского ближе всего к поэме «Лодейников» Н. Заболоцкого (изначально задуманной как стихотворение), где Лара тоже предпочитает неуклюжего философа Лодейникова самолюбивому красавцу Соколову, как и брандмейстер Гросс, крушащему всё на своем пути фанфарону. Но, в отличие от Лары, за спиной которой нет как бы никакого опыта, Глафира, при всем своем простодушии, не страдальческий персонаж: она хорошо знает историю своего купеческого рода, прекрасно хозяйствует, знает светский этикет и правила флирта и в конце, обманутая красавцем-любовником, в отличие от Лары, не рыдает в отчаянии, а постигает страшную жизнь природы. У Заболоцкого с этой задачей справляется сам Лодейников, потому что его Лара оказывается только моментом ее жизни, тогда как у Горянского Глафира наблюдает в конце сказочно-хтоническое инобытие русской природы, где «прокаженный мухомор» и «не приманчив берег топкий» (138), вполне в духе иллюстраций Билибина к русским сказкам.
Таким образом, для Горянского революционный разрыв и эмиграция определили самостоятельность героев, их как бы автономное существование после жизненного и творческого поражений самого поэта. Рассказ повествователя об оставленном родном доме материализует быт, в котором материализуются и герои: «Звенят серебряные связки. / Моих перин лебяжий пух / Остался недругу постелью, / Его же тешит грубый слух / Сверчок фарфоровую трелью» (17). Повествование воскрешает перед читателем не только щелкающий звук сверчка за печью, но и фарфоровую посуду, и фамильное серебро (не сам ключ из серебра). Но возвращение на родину невозможно, и повествователь описывает ситуацию, обратную и возвращению Одиссея к верному псу Аргусу, и доброте псов к евангельскому Лазарю: «Мои же собственные псы / Меня б загрызли под забором» (18).
При этом в поэме есть еще один сквозной образ, кроме идеального лирика, реализующий идеальную сторону поэтического вдохновения. По пути в Константинополь наш эмигрант видит последний закатный луч, воспринимая его как мистическое видение: «Архангел огненным мечом / Мне пригрозил из темной ночи» (18). Поэт-повествователь чувствует себя изгнанным из рая Адамом и явно равняется на те изображения изгнания из рая, которые восходят к фреске Рафаэля и Библии Пискатора, где антропоморфный ангел (поэтому он отождествляется с архангелом, а не с херувимом, как в Библии) держит меч, а другой рукой отталкивает изгнанников; в поздних лубочных изображениях меч огненный становился действительно пламенеющим лезвием, и тогда сравнение оказывается очень точным. Ангел грозит пламенем огня, материализующимся на лубочной картинке и в закатном видении, и становится понятно, что пути на родину нет.
Этот же архангел позволяет повествователю собраться с духом, чтобы перейти к основной части повествования: «Архангел с осиянных гор / Трубит» (50), причем повествователь объясняет, почему он не может стать гимнографом, оставаясь сатириком: «Я лишь пером застряну черным / В твоем блистательном крыле» (51), – пером черной работы журналиста. Но сюжет любви начинает развиваться независимо от способности повествователя, как та истинная сказка жизни, перед которой «И вот, архангельские трубы / замолкнут» (73). Наконец, световой меч указывает на красоту Глафиры среди других явлений мира, столь же простых: «Вечерний луч скользнул из тучи» (87), благодаря чему мы понимаем, что Глафира, не найдя взаимопонимания с Парфандром, продолжит жизнь совершенно самостоятельно.
Парфандр не вписался в истинную сказку: смущаясь внутри коллизии прочесть безграмотной Глафире свое же любовное письмо, он «читает» сказку: якобы в письме написано о стране, где люди живут в обратную сторону, рождаются седыми стариками и полностью молодеют (76). Этот общий утопический мотив движения к вечной молодости через абсурд говорит об уклонении Парфандра от испытания; если бы он объявил себя автором этой выдуманной сказки, всё могло бы сложиться иначе. Парфандр оказывается слишком прозаиком, слишком серьезно относящимся к каждому тексту, в противоположность пастернаковскому Спекторскому, запоздало получающему телеграмму о смерти матери и восходящему на уровень поэтического избранничества; когда отвлекается от любовной страсти в сторону милосердия, тогда он не расстается с любовью, но обретает ее настоящий смысл.
В романе Горянского герои и повествователь разделены не только историческим временем действия, но и привычками, связанными с сезонами. Вдовство героини мыслится как осень, а значит, весна, май становится временем ее новой любви. При этом на метафорическом уровне она входит в область лета, утраченного повествователем рая: «И кто вкусит душистый мед / Твоей освобожденной страсти» (22). Повествователь прямо отождествлял эмиграцию с зимой, а утраченный рай – с летом, когда гудят пчелы и собирают мед: «Я утаил от вьюг нещадных – / Страстей язвительных моих / И пчел златых, по детски жадных / И полевой ковер для них» (22–23). Глафира живет «в весенней радости наружной» (59), причем слово «наружный» оказывается ключевым при разговоре о ее мире: «Цвети цветком в наружном поле» (89), «И неба голубая глубь <…> И полноцветный мир наружный / Который весь живет в тебе, / Колеблясь, как фонтан жемчужный» (99). Мир повествователя лазурен и светел, напоминает не об искусственном фонтане, а о реках: «Омытый Тигром и Ефратом / Лазурный сад души моей» (23); в этом летнем мире «цветет голубоглазый лен» (93). В сравнении с непосредственным райским переживанием повествователя, в мире хозяйственной Глафиры садовая сирень отвечает ее привычкам (24), тогда как клен ее пугает по ночам (27), – мы догадываемся, что осенью листья клена будут выглядеть как языки пламени, но если повествователь принял, что его изгнали из рая, то вдова просто столкнется с бытовым пожаром.
Глафира живет в строгом мире покойного супруга: «Он угрюм, / Сосредоточен, без улыбки» (27). Она не знает лазурного рая, знает только бытовую лазурь «в опочивальне голубой» (26). Быт заменяет ей переживание начального рая (например, аквариум с золотыми рыбками, которые кружат, «не зная, где блаженству край» (27)). Глафира вовсе не враждебна ценностям Парфандра: у нее есть сундук с сигнализацией (28), после первой встречи с Парфандром танцует под музыкальную шкатулку (43), когда этот нелепый человек как бы пробудил в ней тень эротизма; у нее в доме есть звонок (99). Но что мешает их союзу? Сама структура ее репрезентации. Картинная, а не графическая. Глафира, как Венера является из раковины, является из окна (29), а раковины стоят у нее на буфете: «В цветных шелках как облаках, / С глазами полными корысти / Невинной, с зеркалом в руках / То с ножницами, то с наперстком» (30).
Мы видим отсылки к многочисленным «Туалетам Венеры» в галантной живописи, где зеркало обязательно, равно как и пышность обстановки, оттеняющей наготу Венеры. Разумеется, внимательный к деталям Парфандр ее идеализирует. Глафира живописна; у повествователя для Парфандра осталась только графика наброска, «вольный карандаш» (86); Глафира не должна предстать «бесплотным чертежом» (99), она, «осиянная венцами» (98), достойна небесного строя. Повествование, всегда схематичное, только частично может отразить красоту, и в сравнении с условностями повествования простоватая Глафира оказывается подлинной.
В мире сравнений Глафира хранит любой строй, и звездный, и музыкальный, в своем весеннем мире: «Ты помнишь, как весенний дождь / Однажды взмыл гуслярным строем? <…> Ведро, упавшее вверх дном, / Вело задумчивую втору» (87). Весна во сне сразу устремляется в осень: перед пожаром она видит себя во сне в виде Фортуны с рогом изобилия на расписном плафоне маслом (105): «И в буйной щедрости роняет / Цветы, колосья и плоды», – и отсылки к галантной живописи здесь обильны:
И с тихой нежностью зефиры Ласкают прелести Глафиры, Воздушный взвив ее наряд И сокровенья обнажая, Но, скромность как бы уважая, Амур лукаво их прикрыл Мельканьем белоснежных крыл. А тут же пчелы и стрекозы И бабочек шутливый бой (106).
Разумеется, Глафира никогда не слышала про зефиров, но такая архаизация довольно часта у Горянского, применяющего к ней архаизмы вроде «порфира»: «Найду ли сердце под порфирой / Ея далекой красоты?» (30). Цель такой архаизации – не сводить Глафиру к ее характеру, но, наоборот, превращать даже банальности в часть культуры, в галантный образ действий. Например, употреблен архаичный оборот: женщина без кокетства цветет «розою без аромата» (30). Вместо избитого сравнения мы находим способ действия, встраивающий Глафиру в культуру лирического переживания. И Парфандр, обходящийся «без хитрых иностранных слов / И философии туманной» (51–52), оказывается не прав, как только пытается взломать эту культуру своей прозаичностью. Парфандр оказывается не идеальным лириком, а анекдотическим персонажем, как
«рисунок жидкий» (39). Он может только уныло улыбаться Глафире, как картине: «Парфандр с улыбкою унылой / Взглянул искательно в окно – / И было рамою оно / Его картины, сердцу милой» (38).
Парфандр прельщен строем быта Глафиры, он любит «на кухне стройную посуду» (39), но он не может сказать это словами. Вообще говорить о Глафире может только эмигрант, для которого тихая пристань быта не просто удивительна, но желанна, поэтому он может не просто восхвалить «порядок <…> Домашних звезд в отраду нам» (40), а воспеть его. Парфандр умеет заставить птенцов щебетать, вырастив их в инкубаторе, но сам безгласен. Вручив Глафире химический огнетушитель собственного изобретения в обмен на деньги на опохмел, он остается пародией на путто, подносящего воду для умывания на изображениях «Туалета Венеры».
По сути, Парфандр впервые знакомит Глафиру с экзотикой, говоря, что огнетушитель обратит пламя в безвредный «огонь бенгальский» (41). Уже этот намек на Индию показывает, что их роман ничем не кончится. История с огнетушителем пародирует античный роман, «Эфиопику» Ге-лиодора, где Хариклея выходит невредимой из огня, доказав свою невинность. Хариклея – белая дочь эфиопского царя, потому что мать смотрела на картину с Андромедой, как мать пушкинской мертвой царевны – на снег; она картинна, но именно поэтому не экзотична. Глафира, сама не понимая, подхватывает игру в экзотику; трехрублевка, данная непутевому знакомому, сравнивается с попугаем: «Но все ж бумажка в три рубля, / Подобная зеленой птице / Вспорхнула…» (42).
Однако войти в игру в экзотику – значит не войти в настоящий роман. Глафира напоминает героиню волшебной поэмы, способную преображаться в дивных садах весны или осени: «Сиренью влажной и травой / Дышала ночь и пес дворовый, / Узрев хозяйки образ новый / Бежал за ней и лаял он / На весь уездный Трианон» (44). Она, конечно, принимает условия игры в экзотику: так, она слушает птицу как готтентотка – влюбленного готтентота (65), когда она получает письмо Парфандра; ее белое платье оказалось испещрено солнечными пятнами, как пестрый дикарский наряд, оно «Все освещенные предметы / Вдруг отразило…» (69). Но эта ее поверхностность, быстрое усвоение экзотических правил не позволит поверить в любовь Парфандра как в вечную любовь.
Парфандр в любовном письме пытается сказать не столько о возлюбленной, сколько о вечности самой его песни, как она «куреньем жертвенным плыла» (54), что заканчивается полуцитатой из Аполлона Григорьева об уходе с толпой цыганок; тем самым Парфандр оказывается жертвой медиума, стиля высказывания, а не содержания, взламывающего любую вечность. Также он, пытаясь изобрести вечные пузыри, падает с ветки перед Глафирой: медиум оказывается сильнее, лопание пузырей – сильнее химии; иначе говоря, вечность уступает место комическому сюжету. В конечном счете медиум оказывается сильнее любого чувства: Парфандр мечтает о взаимности молодой вдовы, но сильнее закон почтовой связи, нерушимая охрана почтовой корреспонденции («Великий некто, видом строг, / И, как из мрамора, изваян» (57)). Хилый и боящийся пересудов Парфандр – никто против защищающей почту военной машины. Любая мечта о вечной любви разбивается о более устойчивое существование менее почтенных предметов.
Апофеоз такого крушения – разговор с читателем, когда Глафира гадает по картам; хотя всё прозрачно в символике и она объяснена, читатель почему-то должен понимать ее лучше, чем Глафира: «И автору наперекор / Бросаешь любопытный взор / В расположенье неизвестной, / Еще не явленной главы» (93). Иначе говоря, читатель понимает, как устроено творчество, тогда как Глафира, ставшая предметом внимания думающего о вечности прозаика Парфандра, этого не понимает. Дальнейшая история незамысловата: хотя Глафира употребила огнетушитель, Гросс залил дом водой, как полководец, развернув полностью программу борьбы с пожарами и истребив быт; пожарные машины уничтожили сирень и плодовый сад: «Он – Александр! Он – Ганнибал / В сверкающей античной каске» (110).
Так была разрушена собственная логика существования Глафиры, остался только ее сон, где она на плафоне с рогом изобилия, и разгадка карт с читателем. Конечно, Гросс пародирует романтического героя наполеоновского типа; он и самонадеян, и болтлив, и высокомерен, но то, что она поддалась искушению, не значит ее падения, в отличие от Лары у Заболоцкого. Да, она готова «Всё позабыть, пойти за ним – / За искусителем своим» (120–121). Но что именно она будет делать после искушения, решает читатель. Писатель-эмигрант мог говорить, что Парфандр и Глафира самостоятельны; в конце концов Глафира и становится тем, что в нее вчитает читатель – покаяние после искушения или попытку самоубийства. Раз читатель разгадал тайну карт, какие события будут, пока повествователь был увлечен нравами героев, то читателю и решать. А для эмигранта она просто становится невидима: «Без ласки, без улыбки нежной, / По незабудке голубой / Скользил привычно взор небрежный, / Ея не видя пред собой…» (133).
Так окончательно устанавливаются отношения между повествователем – идеальным лириком, который мог бы продолжать воспевать Глафиру, и героями, которые не просто обрели самостоятельное существование, но и обосновали свои программы поэтичности, уже не сводящейся только к стройному бытовому порядку (Глафира) и прозаичности, уже не сводящейся только к хитрости и изобретательности (Парфандр). Система героев оказывается устойчивой, когда повествователь расстается не только с родиной и ее героями, но и с привычными формами рассказа о них.
Таким образом, сложная система персонажей позволяет изменить и образ эмиграции – от изгнания из рая к особой точке, из которой видна не только самостоятельность героев, но и их самоопределение. Особые отношения героев, которые подчинены не только их характеру, но и увлекательности их речи и способности воображать себя и другого в ситуации переходящих от одного к другому культурных символов (времена года, иерархии в природе и культуре) и рамок (живопись, графика, романс), подхватывать мотивы чужой речи (экзотика, чувство уместности), выстраивают особый механизм, делающий одних поэтичными людьми, а других – совершенно прозаичными. Важным оказывается не начальное самоопределение героя, профессиональное или бытовое, но результат, проявляющийся в поведении и в принимаемых решениях. Одним из героев в системе становится и читатель, который помогает лирическому повествователю и в конце концов автору справиться с горечью эмигрантского существования.
Russian State University for the Humanities the Chair of Cinema and Contemporary Art
Список литературы Система персонажей в романе в стихах В. Горянского "Парфандр и Глафира"
- Горянский В. Парфандр и Глафира: роман. Париж, 1956. 144 с.
- Московская Д.А. Международная научная конференция в ИМЛИ РАН "Русская литература ХХ века и революция 1917 года" // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2016. Т. 75. №. 2. С. 72-78.
- Питулько Г.Н., Исаев А.П. Русская революция 1917 года и ее отражение в редких изданиях Библиотеки РАН // Управленческое консультирование. 2017. №. 9. С. 157-163.
- Якушева Г.В. Гёте Иоганн Вольфганг (Goethe) (1749-1832) // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918-1940): в 4 т. Т. 4 / РАН. ИНИОН. Рос. гуманит. науч. фонд. М., 2001. С. 177-189.