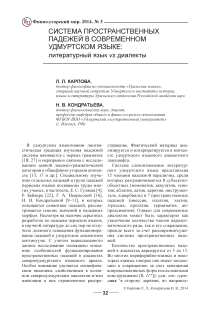Система пространственных падежей в современном удмуртском языке: литературный язык vs диалекты
Автор: Карпова Людмила Леонидовна, Кондратьева Наталья Владимировна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию системы пространственных падежей в современном удмуртском литературном языке и его диалектах с точки зрения количественного состава и семантического наполнения.
Удмуртский язык, пространственные падежи, северноудмуртские диалекты, бесермянский язык, вторичные падежи
Короткий адрес: https://sciup.org/14723106
IDR: 14723106
Текст научной статьи Система пространственных падежей в современном удмуртском языке: литературный язык vs диалекты
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
(г. Ижевск, РФ)
В удмуртском языкознании лингвистическая традиция изучения падежной системы начинается с первых грамматик [18; 27] и неразрывно связана с исследованием данной лексико-грамматической категории в общефинно-угорском контексте [13; 17 и др.]. Специальному изучению отдельных падежей и групп падежей пермских языков посвящены труды многих ученых, в частности, Е. С. Гуляева [4], Р. Бейкера [22], Г. А. Некрасовой [16], Н. В. Кондратьевой [9–11], в которых освещается семантика падежей, рассматривается генезис значений и падежных морфем. Несмотря на наличие серьезных разработок по падежам пермских языков, в научной литературе до сих пор не получило должного освещения функционирование падежей в удмуртском диалектном континууме. С учетом вышесказанного данное исследование посвящено описанию особенностей функционирования пространственных падежей в диалектах северноудмуртского языкового ареала. Особое внимание уделяется специфическим явлениям, свойственным в основном северноудмуртским диалектам и/или имеющим в них ограниченное распро- странение. Фактический материал анализируется и интерпретируется в контексте удмуртского языкового диалектного ландшафта.
Система словоизменения литературного удмуртского языка представлена 15 членами падежной парадигмы, среди которых разграничиваются 8 субъектнообъектных (номинатив, аккузатив, генитив, аблатив, датив, каритив, инструмен-таль, адвербиаль) и 7 пространственных падежей (инессив, иллатив, элатив, эгрессив, пролатив, терминатив, ап-проксиматив). Однако для современных диалектов может быть характерно как увеличение количества членов парадигматического ряда, так и его сокращение, прежде всего за счет расширения/суже-ния системы пространственных падежей.
Количество пространственных падежей в диалектах варьируется от 5 до 13. Во многих периферийно-южных и некоторых южных говорах оно имеет тенденцию к сокращению за счет замещения аппроксимативных форм послеложными конструкциями [8, 117 ]): удм. лит. гурт- лань ‘в сторону деревни, по направле-
нию деревни’ > кукм. гурт пала ‘тж’. Минимальное количество пространственных падежей представлено в парадигме склонения имен красноуфимского говора, где наряду с аппроксимативом отсутствует и элатив, функциональная нагрузка которого передается формами пролатива: шо кар ти lъктиж ‘он вернулся из города Красноуфимска’ [8, 118 ; 15, 96–97 ]. Имеются также ареальные колебания и в плане частотности употребления тех или иных падежных форм. В частности, в cеверных диалектах и некоторых периферийно-южных говорах (кукморском, буйско-таныпских и др.) значительно реже, чем в литературном языке, употребляется терминатив; его заменяет эквивалентное сочетание имени существительного с послелогом до-роз' , дыроз' ‘до’ [8, 118 ]): удм. лит. бак-ча озь ‘до огорода’; вал озь ‘до лошади’ > б.-тан.: бакча дыроз' ‘тж’; вал дыроз' ‘тж’.
Для северноудмуртских диалектов характерна тенденция к увеличению числа падежей, что связано с развитием серии вторичных приблизительно-местных падежей с н' -евым признаком, возникших в результате секреции послелогов с основой дин' - ‘у, около, при, возле’. Ареал их распространения ограничивается нижнечепецкими говорами (слободским, косинским) [19, 167 ; 21, 285–286 ], среднечепецким диалектом и говорами северо-западной части Кезского района [6, 86–88 ; 14, 201 ]. В верхнечепецких говорах аналогичные падежные формы отсутствуют: им соответствуют конструкции с послелогами с основой дин' - ( эшэ дин'э ‘к своему другу’, эшэ дин'ыс' ‘от своего друга’).
Дистрибуция новых падежей ограничена существительными и местоимениями со значением «лицо», в связи с чем они имеют узкую семантику, характеризующуюся выражением пространственнопосессивных отношений. Они обозначают не просто местонахождение около кого-(чего-)либо, движение по направлению к кому-(чему-)либо и т. д., а «нахождение в доме (домашнем очаге, жилище, в пределах усадьбы), который принадлежит кому-либо, направление движения в дом (жилище), принадлежащее кому-либо, и т. д.» [14, 194].
Относительно происхождения падежных форм с элементом - н' - существуют разные мнения. Например, А. И. Емельянов [5, 123 ] предполагал, что формант - н'э глазовского диалекта восходит к послелогу, образовавшемуся от имени существительного ин ‘место’ + падежное окончание. Мы придерживаемся точки зрения исследователей, объясняющих происхождение показателя - н' -на базе послелогов с основой дин' - ‘у, около, возле, при’, которые, в свою очередь, сформировались от имени существительного дин' ‘основание, комель; близость, околица’ [2, 236 ; 21, 287 ; 26, 50 , 135–136 ].
В среднечепецком диалекте, как показывает анализ собранного языкового материала, - н' -евый признак систематически встречается в четырех падежах, чаще всего в инессиве и иллативе, реже в элативе, эгрессиве. Примеры-предложения: Кач. сос'эдн'э гинэ вэтлоз . ‘ [В дом] к соседу только сходит [он]’; Пыш. тан' нош къццъ кэ пъриз, кол'аосн'ън , вълдъ. ‘Вот снова куда-то исчез [он], в [доме] Коли [находится], наверно’; Деб. кал' эшэн'ъс'эн мон сойэ пумитай . ‘Только что в [доме] друга своего я его встретил’; Деб. вал'аосн'ъс' къџэ кэ тодмотэм ад'ами потиз . ‘ Из [дома] Вали какой-то незнакомый человек вышел’ [6, 87 ].
Что касается приблизительного про-латива и приблизительного терминати-ва, то примеров на их употребление в наших текстовых записях фольклорного и повествовательного характера не обнаружилось. Однако в материалах, собранных по специальному словнику-вопроснику по определению ареала распространения отдельных явлений, наличие этих падежных форм фиксируется. Некоторые примеры: Чурив. сос'эдн'оз' ‘до соседа’, сос'эдн'ыт'и ‘у соседа’, Ник. ад'амин'оз' ‘до человека’, ад'амин'ы-т'и ‘у человека’. Данный факт свидетельствует, как нам кажется, о вполне реаль-
Финно – угорский мир. 2014. № 3 ном функционировании приблизительного пролатива и приблизительного термина-тива в среднечепецком диалекте. В нижнечепецких говорах зафиксировано также пять форм приблизительно-местных падежей: приблизительно-местный, прибли-зительно-входный, приблизительно-исходный, приблизительно-отдалительный, приблизительно-переходный [21, 285–286 ].
В фольклорных текстах по среднечепецкому диалекту, записанных в конце XIX и начале XX столетия [3; 23–25], в материалах лингвистической экспедиции Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН [ЛЭ 1929], а также в работах исследователей при-чепецких диалектов [2, 228–241 ; 12, 218–227 ] из приблизительно-местных падежей главным образом встречаются приблизительный инессив и приблизительный иллатив, в единичных случаях – приблизительный элатив. Некоторые примеры: одиг-огзыңе [3, 73 ] ‘друг к другу’, mimizńin [23, 114 ] ‘у своей матери’, uarmaiizńε [24, 139 ] ‘к своему тестю’, минням [ЛЭ 1929, 55 ] ‘к нам’, адямине [12, 224 ] ‘к человеку’, староверньын [2, 236 ] ‘у старовера’, староверньысь [2, 236 ] ‘от старовера’ и т. д. В диалектных источниках и работах более позднего периода отмечаются формы и других падежей с - н' -евым признаком. В частности, в материалах диалектологических экспедиций студентов Удмуртского государственного университета [ДЭ 1980; ДЭ 1983; ДЭ 1983а; ДЭ 1988; ДЭ 1995] по среднечепецкому региону кроме указанных двух приблизительно-местных падежей зафиксированы падежные формы с формантами - н'ыс' , - н'ыс'эн , - н'ыт'и , - н'оз' . Правда, следует указать, что в текстовых записях эти последние четыре падежа, как и в наших личных собраниях, практически не встречаются, их наличие в том или ином населенном пункте фиксируется в основном в словарных статьях экспедиционных материалов, собранных по специальной программе-вопроснику.
Неодинаковая частотность употребления, с одной стороны, приблизительного инессива и приблизительного иллатива соответственно с формантами -н'э, -н'ын и, с другой стороны, приблизительного элатива, приблизительного эгрессива, приблизительного пролатива и приблизительного терминатива соответственно с формантами -н'ыс', -н'ыс'эн, -н'ыт'и, -н'оз', по-видимому, обусловлена различием в частотности выражаемых ими отношений.
Интересно высказывание Р. Бейкера относительно характера функционирования н' -евых падежей в северноудмуртских говорах. Обращаясь к материалам Т. И. Тепляшиной [21, 283–292 ], исследователь задается вопросом: что представляют собой четыре других падежа с формантами - н'ыс' , - н'ыс'эн , - н'ыт'и , - н'оз' , выявленные ею в нижнечепецких говорах в дополнение к двум признанным падежным формам с показателями - н'э , - н'ын, – выступают ли они как реликтовое явление процесса трансформации послелогов с основой на дин' - в падежное окончание или функционируют реально? Не имея возможности привлечь дополнительный материал из других удмуртских говоров для разрешения поставленной проблемы и опираясь лишь на имеющиеся сведения, Р. Бейкер тем не менее полагает, что падежные формы на - н'э , - н'ын – «аллатив II» и «абес-сив II» – возможно, возникли раньше, чем остальные приблизительно-местные падежи с формантами - н'ыс' , - н'ыс'эн , - н'ыт'и , - н'оз' [22, 173–174 ].
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что параллельно с падежными формами с элементом -н'- в среднечепецком и нижнечепецком диалектах функционируют послеложные конструкции с послелогами с основой дор-, например: Ук. кузой-эн соос лыкти.зы мужикэ доры. ‘Вдвоем (‘парой’) они пришли к моему мужу’; Кож. тин' оз' пийэ улиз с'эстрайэ дорын. ‘Вот так мой сын жил у моей сестры’. Наиболее часто использование аналитической конструкции с послелогом дор-наблюдается на месте возможных форм употребления приблизительного элатива, приблизительного эгрессива, приблизи- тельного пролатива и приблизительного терминатива.
Приблизительно-местные падежи кроме северноудмуртских диалектов встречаются также в бесермянском наречии [20, 184 ]. Наличие локальных падежей с элементом - н' -, образованных от послелогов с основой на дын -/ дин -, отмечается и в коми-пермяцких диалектах [1, 138–140 ]. По мнению Р. Бейкера, процессы разрушения послелогов и вследствие этого образования новых падежных формантов с элементом - н' -, наблюдающиеся в северноудмуртских и южнокоми-пермяцких говорах, происходили в каждом из этих языков параллельно и независимо друг от друга [22, 198 ]. Следовательно, развитие в удмуртских и коми-пермяцких диалектах приблизительноместных падежей из послелогов с основой удм. дин' -, кп. дын- / дин- представляет собой позднее явление.
В большинстве удмуртских диалектов приблизительно-местным чаще всего соответствуют послеложные конструкции с послелогами, образованными от основ дор- и дин' - ‘у, около, возле, при’, например: юж., сред. эшэз доры , вч. эшэз дин'э ‘к другу своему’.
Помимо количественной разницы в системе пространственных падежей литературного удмуртского языка и диалектов собранные диалектные материалы позволяют говорить и о наличии семантических колебаний в дистрибуции конкретных падежных форм. Семантическое варьирование падежных форм в литературном языке и диалектах может стать объектом специальных научных изысканий, здесь же мы ограничимся лишь несколькими примерами на материале северноудмуртских диалектов. Так, в среднечепецком и нижнечепецком диалектах встречаются отдельные случаи употребления форм эгрессива в функции элатива, например: сч. – Гул. гуртъс'эн нуллим с'ийон. ‘Из деревни носили еду’; Кож. кал' гинэ ул'чаъс'эн пъри. ‘Только что с улицы зашел [я]’; нч. – кировыс'эн лыктим. ‘Мы приехали из Кирова’; ми чолаыс'эн лыктэм муртйос. ‘Мы люди, прибывшие из Круглова’. Использование формы эгрессива в функции элатива, по-видимому, объясняется близостью этих падежей с точки зрения выражения аблативных значений. В отличие от элатива, который тоже обозначает место, откуда исходит действие, словоформа в эгрессиве более конкретно указывает на место, как бы выделяя его.
В нижнечепецких говорах форма - ыс'эн , по материалам Т. И. Тепляшиной, употребляется также на месте литературного инессива на - ын : та виыськысен толон султим . ‘Мы проснулись вчера в эту пору’ (лит. та виын толон султћм ) [19, 168 ].
В ярском говоре среднечепецкого диалекта пролатив может выступать в функции инессива, например: Дзяк. д'эрэвн'аыт' умой вэрало . ‘В деревне (‘ по деревне ’) хорошо говорят’; Ел. ми пинал дырйа ул'чаыт' шудылим с'а . ко шудонэн . ‘Мы в детстве на улице (‘ по улице ’) играли в разные игры (‘во всякую игру’)’. Как показывают примеры, использование пролативных форм на месте инессивных отмечается при реализации значения места, пространства, в пределах которого происходит движение (данное значение присутствует в семантической структуре обоих указанных падежей). В других удмуртских диалектах подобное явление не отмечается.
Определенные различия между удмуртским литературным языком и диалектами обнаруживаются на уровне фонетического оформления падежных показателей. В частности, в диалектах большим разнообразием морфонологических вариантов характеризуются маркеры пролатива. В системе современного литературного языка указанный падеж может оформляться суффиксами -етћ / -этћ , -ытћ , -тћ . В южных, периферийно-южных и срединных говорах пролативный показатель представлен вариантами -(й)эти , -ти , имеющими ареальный характер распространения. В отличие от этого в северноудмуртской диалектной зоне отмечаются следующие маркеры пролатива: -(э)т'и , -(ы/ъ)т'и ,
®
Финно – угорский мир. 2014. № 3
-(ы/ъ)т' , -(э)т' , -ки , употребление которых не представляет единства в говорах. Для верхнечепецких говоров характерна тенденция к использованию форманта -(э)ти : Алек. губэчти пис'ай-а, ма . р-а, вэтлэ . ‘ По подполью кошка, что ли, ходит’; Пол. бакчаэти пырын но уд бы . гат тон иван дин'э . ‘ По огороду и зайти не сможешь ты в дом Ивана’. В нижнечепецких говорах отмечается функционирование суффикса - (э)т'и : шурэт'и ‘по реке’, коркат'и ‘по дому’ [19, 163 ]. Что касается среднечепецкого диалекта, то в ярском и глазовском говорах обнаруживаются все варианты пролатив-ного показателя: -(э)т'и , -(ы/ъ)т'и , -(ы/ъ)т' , -(э)т' , -ки . Юкаменскому говору указанного диалекта свойственно в основном употребление вариантов -(э)т'и , -(ъ)т'и : яр., глаз. ул'ча(э)т'и ~ ул'ча(ы)т'и ~ ул'ча(э)т' ~ ул'ча(ы)т' ~ ул'чаки ; юк. ул'ча(э)т'и ~ ул'ча(ъ)т'и ‘по улице’. Как показывают данные по северноудмуртским диалектам, в верхнечепецких говорах в отличие от среднечепецких и нижнечепецких не происходит палатализация согласного т суффикса пролатива. Пролативный маркер ярско-го и глазовского говоров -(ы/ъ)т' возник из формы на -(ы/ъ)т'и путем выпадения конечного гласного и . Вариант - ки , по мнению большинства исследователей, произошел от суффикса - ти , который, в свою очередь, образовался путем слияния * -t (-) с пространственным значением и лативным -i (< * -j ) [7, 65 ; 10, 196 ; 11, 93–99 ].
Таким образом, сравнив особенности дистрибуции пространственных падежей в современном литературном удмуртском языке и его диалектах, можно выделить следующие различия: а) на уровне фонетического оформления падежных маркеров; б) с точки зрения количественного состава словоизменительной парадигмы; в) на уровне семантического наполнения отдельных членов парадигматического ряда. Указанные различия обусловлены прежде всего экстра- и интралингвистическими факторами развития исследуемого язы- ка, поскольку система склонения в удмуртском языке складывалась на протяжении нескольких столетий в результате влияния факторов, восходящих к разным хронологическим периодам.
Поступила 14.05.2014
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
-
а) языки и диалекты:
-
б.-тан . – буйско-таныпский говор удмуртского языка,
вч . – верхнечепецкие говоры удмуртского языка, глаз . – глазовский говор среднечепецкого диалекта,
-
кп . – коми-пермяцкий язык,
кукм . – кукморский диалект удмуртского языка, лит . – литературный язык,
-
нч . – нижнечепецкие говоры (нижнечепецкий диалект) удмуртского языка,
сред. – срединные говоры удмуртского языка, сч. – среднечепецкие говоры (среднечепецкий диалект) удмуртского языка, удм. – удмуртский язык, юж. – южноудмуртские диалекты, юк. – юкаменский говор среднечепецкого диалекта,
-
яр . – ярский говор среднечепецкого диалекта;
-
б) населенные пункты:
Алек. – д. Александрово,
Гул. – д. Гулеково,
Деб. – с. Дебы,
Дзяк. – д. Дзякино,
Ел. – с. Елово,
Кач. – д. Качкашур,
Кож. – д. Кожиль,
Ник. – с. Никольское,
Пол. – с. Полом,
Пыш. – с. Пышкет, Чурив. – д. Чуривыл;
-
в) источники:
ДЭ 1980 – Материалы диалектологической экспедиции студентов Удмуртского государственного университета, Глазовский район. – Ижевск, 1980.
ДЭ 1983 – Материалы диалектологической экспедиции Удмуртского государственного университета, Глазовский район. – Ижевск, 1983.
ДЭ 1983а – Материалы диалектологической экспедиции студентов Удмуртского государственного университета, Ярский район. – Ижевск, 1983.
ДЭ 1988 – Материалы диалектологической экспедиции студентов Удмуртского государственного университета, Ярский район. – Ижевск, 1988.
ДЭ 1995 – Материалы диалектологической экспедиции студентов Удмуртского государственного университета, Балезинский район. – Ижевск, 1995.
ЛЭ 1929 – Материалы лингвистической экспедиции. – Научно-отраслевой архив Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Д. 338. – Ижевск, 1929.
Список литературы Система пространственных падежей в современном удмуртском языке: литературный язык vs диалекты
- Баталова, Р. М. Коми-пермяцкая диалектология/Р. М. Баталова. -М.: Наука, 1975. -251 с.
- Вахрушев, В. М. Об особенностях говоров северного диалекта удмуртского языка//Записки. -Ижевск, 1959. -Вып. 19. -С. 228-241.
- Гавриловь Б. Произведенiя народной словесности, обряды и повmрья вотяковь Казанской и Вятской губернiй. -Казань, 1880. -189 с.
- Гуляев, Е. С. Происхождение падежей с элементом сь в коми языке//Историко-филологический сборник. -Сыктывкар, 1960. -Вып. 5. -С. 131-160.
- Емельянов, А. И. Грамматика вотяцкого языка/А. И. Емельянов. -Л.: Изд-во Ленингр. вост. ин-та, 1927. -160 с.
- Карпова, Л. Фонетика и морфология среднечепецкого диалекта удмуртского языка/Л. Карпова. -Тарту, 1997. -224 с.
- Карпова, Л. Л. Среднечепецкий диалект удмуртского языка: Образцы речи/Л. Карпова. -Ижевск, 2005. -581 с.
- Кельмаков, В. К. Краткий курс удмуртской диалектологии: Введение. Фонетика. Морфология. Диалектные тексты. Библиография/В. К. Кельмаков. -Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1998. -386 с.
- Кондратьева, Н. В. Межкатегориальные связи в грамматике удмуртского языка (на материале падежа прямого объекта)/Н. В. Кондратьева. -Ижевск: Изд-во «Удм. ун-т», 2010. -247 с.
- Кондратьева, Н. В. Категория падежа имени существительного в удмуртском языке/Н. В. Кондратьева. -Ижевск: Изд-во «Удм. ун-т», 2011. -256 с.
- Кондратьева, Н. В. Формирование падежной системы в удмуртском языке/Н. В. Кондратьева. -Ижевск: Изд-во «Удм. ун-т», 2011. -154 с.
- Лыткин, В. И. Некоторые особенности глазовского диалекта/В. И. Лыткин, Т. И. Тепляшина//Записки. -Ижевск, 1959. -Вып. 19. -С. 218-227.
- Майтинская, К. Е. Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков/К. Е. Майтинская. -М.: Наука, 1979. -263 с.
- Максимов, С. А. О вторичных пространственных падежах в удмуртском языке//Проблемы удмуртской и финно-угорской филологии: межвуз. сб. науч. тр. -Ч. 2. Языкознание. Фольклор и краеведение. -Ижевск, 1999. -С. 193-208.
- Насибуллин, Р. Ш. Наблюдения над языком красноуфимских удмуртов//О диалектах и говорах южноудмуртского наречия: сб. ст. -Ижевск, 1978. -С. 86-151.
- Некрасова, Г. А. Система L-овых падежей в пермских языках: происхождение и семантика/Г. А. Некрасова. -Сыктывкар, 2002. -168 с.
- Серебренников, Б. А. Историческая морфология пермских языков/Б. А. Серебренников. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. -392 с.
- Сочиненiя, принадлежащiя кь грамматикm вотскаго языка. Вь Санктпетербургm при Императорской Академїи наукь 1775 года.//Первая научная грамматика удмуртского языка. -Ижевск, 1975. -С. 15-113.
- Тепляшина, Т. И. Нижнечепецкие говоры северноудмуртского наречия//Записки. -Ижевск, 1970. -Вып. 21: Филология. -С. 156-196.
- Тепляшина, Т. И. Язык бесермян/Т. И. Тепляшина. -М.: Наука, 1970. -288 с.
- Тепляшина, Т. И. О новых удмуртских падежах//Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. Pars VI: Dissertationes sectionum: Phonologica et morphologica, syntactica et semantica. -Turku, 1981. -S. 285-292.
- Baker, R. The Development of the Komi Case System. A Dialectological Investigation/R. Baker. -Helsinki, 1985. -266 p.
- Wichmann, Y. Wotjakische Sprachproben (= JSFOu 11). I: Lieder, Gebete und Zaubersprüche. -Helsingfors, 1893. -XX + 200 S.
- Wichmann, Y. Wotjakische Sprachproben (= JSFOu 19). II: Sprichwörter, Rätsel, Märchen, Sagen und Erzählungen. -Helsingfors, 1901. -IV + 200 S.
- Wichmann, Y. Wotjakische Chrestomathie mit Glossar/Y. Wichmann. -Helsingfors, 1901. -V + 134 S.
- Wichmann, Y. Wotjakische Chrestomathie mit Glossar. Anhang: Grammatikalischer abriss von D. R. Fuchs. Zweite, ergänzte Auflage/Y. Wichmann. -Helsinki, 1954. -X + 167 S.
- Wiedemann, F. J. Grammatik der wotjakischen Sprache nebst einem kleinen wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen Wörterbuche/F. J. Wiedemann. -Reval, 1851. -390 S.