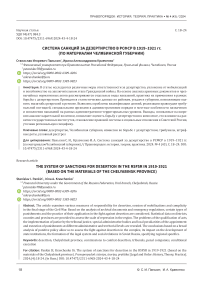Система санкций за дезертирство в РСФСР в 1919-1921 гг. (по материалам Челябинской губернии)
Автор: Панькин С.И., Кравченко И.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: История и общая теория обеспечения правопорядка
Статья в выпуске: 4 (43), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются различные меры ответственности за дезертирство, уклонение от мобилизаций и пособничество на заключительном этапе Гражданской войны. На основе анализа архивных документов и чрезвычайных нормативных актов рассматриваются отдельные виды наказаний, практика их применения в рамках борьбы с дезертирством. Приводятся статистические данные по районам, уездам и губернии, позволяющие оценить масштабы репрессий в регионе. Выявлены проблемы квалификации деяний, реализации правосудия трибунальной юстицией, специальными органами в административном порядке и местные особенности назначения и исполнения наказаний на разных административно-территориальных уровнях. Выводы, основанные на широком анализе карательной политики, позволяют оценить борьбу с дезертирством в комплексе, его влияние на развитие государственных институтов, становление правовой системы и социальные отношения в Советской России, уточнив региональную специфику.
Дезертирство, челябинская губерния, комиссии по борьбе с дезертирством, трибуналы, штрафные роты, условный расстрел
Короткий адрес: https://sciup.org/14132197
IDR: 14132197 | УДК: 94(47) | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-43-4-18-24
Текст научной статьи Система санкций за дезертирство в РСФСР в 1919-1921 гг. (по материалам Челябинской губернии)
Дезертирство имело место во все исторические периоды, но во время Гражданской войны в России приобрело признаки социального протеста․ Большевики, в условиях вооруженного противостояния воспринимали уклонение от мобилизации и оставление воинских частей, как угрозу существующему режиму․ Масштабы явления, его социально-политическое содержание представляли для власти достаточно острую проблему․ Ее решали различными методами, включая чрезвычайные меры государственного принуждения․ Борьба с дезертирством являлась ведущим направлением внутренней политики при осуществлении безопасности советского государства․ В рамках данной деятельности ключевую роль играли репрессии к виновным лицам, а также их родствен-никам․ Система наказаний в 1918–1922 гг․ развивалась преимущественно в сторону ужесточения, увеличения квалифицирующих признаков и количества составов деяний, предусмотренных в различных актах․ Параллельно усиливали систему учета дезертиров, наделяя судебными и карательными функциями различные структуры․
Тема дезертирства в Гражданскую войну, чрезвычайные меры борьбы с ним востребованы исследователями, однако санкции и практика их применения остаются недостаточно изученными, как в масштабах всей страны, так и на местном уровне․ Рассматриваются далеко не все аспекты, причем многие из них поверхностно․ Отдельные виды наказаний изучены слабо․ Многие авторы, как правило, только фиксируют различные виды ответственности, исходя из анализа декретов и поста-новлений․ В ряде работ приводится статистика, но нет четких данных по осужденным, неясен порядок вынесения приговоров в рамках деятельности различных субъектов правоприменения [1; 2]․
К числу немногих специальных работ относится исследование В․ В․ Никулина, где отмечается расширение понятия дезертирства с включением в него уклонения от призыва и укрывательства․ Автор подчеркивает перманентное усиление ответственности, увеличение перечня отягчающих обстоятельств и полагает, что репрессии не решили проблему, но с уменьшением дезертирства произошло и смягчение ответственности [3]․
Комплексному анализу проблемы посвящена монография К․ В․ Левшина․ Приводится примеры распределения дезертиров в уездных (УКД) и губернских (ГКД) комиссиях по борьбе с дезертирством, статистика нака-заний․ Исследователь отмечает, что применение санкций зависело от обстановки на фронтах и местных условий․ Так, тюремные сроки были незначительными и в рамках амнистий постоянно сокращались․ Отдельно выявлены факторы конкретной местности, которые могли квалифицироваться как смягчающие вину: темнота, несознательность, безграмотность [4, с․ 198–200, 210–213]․
Итак, борьба с дезертирством в разрезе действовавших санкций изучена недостаточно․ В то же время анализ системы наказаний даст возможность выявить особенности репрессивной политики в регионе, уточнить распространенность отдельных видов ответственности по сравнению с другими территориями, а также их роль в борьбе дезертирством․
Материал и методы
В статье использованы чрезвычайные нормативные акты, регулировавшие применение санкций за дезертирство, архивные документы, включая отчетность специальных органов, уголовные дела и специальная литература по теме исследования․ Основу исследования составили общенаучные и специальные методы научного познания, анализ теоретических, нормативных и архивных источников, статистический, сравнительно-исторический методы․
Описание исследования
Уже первые акты РСФСР по дезертирству предусматривали дифференциацию ответственности в зависимости от степени виновности и освобождения от нее в случае добровольной явки․ Постановление Совета обороны от 25․12․1918 закрепило в качестве наказания принудительные работы на срок до пяти лет для укрывателей, с лишением свободы либо без него․ В акте декларативно зафиксирована возможность подвергнуть виновных, в случае рецидива, «каре в высшей ее степени» [5, с․ 234]․ Ведомственные циркуляры Центральной комдез в феврале 1920 г․ уравняли в плане наказаний дезертиров и уклонистов, закрепив градацию на злонамеренных и по слабости воли․ Первые подлежали передаче в трибуналы, не злостных отправляли в запасную или «в свою часть и без суда» [6, с․ 83–84]․ Постановление Совета обороны от 3․06․1919 закрепило конфискацию имущества, лишение навсегда либо на срок всего земельного надела, выполнение урочных работ в хозяйствах красноармейцев․ Данные наказания имели право налагать ревтрибуналы, а при их отсутствии и ГКД в отношении семей дезертиров «и вообще к укрывателям»․ Таким образом, круг виновных лиц дополнялся укрывателями, пособниками (включая должностных лиц), семьями дезертиров и уклонистов․ В случаях упорного укрывательства предусматривались штрафы на волости и деревни «за круговой порукой всего населения» с назначением принудительных работ [7, с․ 417–419]․ В качестве субъекта ответственности в этих случаях выступало все поселковое общество․
Конфискации, работы, повинности и особенно коллективные штрафы были четко ориентированы на сельских жителей, подлежавших аресту и преданию суду при уклонении․ Такие чрезвычайные наказания без четкого определения пределов реализовывали принцип коллективной ответственности, ставя вне закона население целых районов․ Здесь прослеживается линия на устранение условий к дезертирству, то есть борьба с активными, пассивными (родственники) и потенциальными (все жители местности) укрывателями․
Декретом ВЦИК от 8․04․1920 ГКД получили право приговаривать дезертиров к личным (до штрафных рот) и имущественным (конфискации) наказаниям, а УКД — те же меры в отношении укрывателей [8, с․ 184–185]․
В ряде случаев сложным представляется разделить административные санкции от уголовных, а также собственно наказания от мер уголовно-процессуального принуждения․ Например, условная (временная) конфискация несла в себе признаки наложения ареста на имущество, но одновременно это была и мера государственного принуждения, налагаемая органами власти (исполкомы, УКД) без судебного решения․
Субъектами правоприменения выступали разнообразные структуры и должностные лица, перечень которых законодательно не закреплялся, но на практике постоянно увеличивался․ В сельской местности наказания могли назначить распоряжениями командования частей комдез, межведомственных экспедиций, выездных оперативных троек (ОРТ), которых наделяли особыми полномочиями либо позже санкционировали произведенные ими конфискации и штрафы․ Выездные сессии трибуналов, наделялись правами на постановление и исполнение любых наказаний с момента создания․
Уездный уровень представляли УКД, ЧК, военкоматы, исполкомы советов (ИК) и РКП (б), оперативные штабы (в форме троек, пятерок) из руководителей этих органов․ Они налагали взыскания в виде штрафов, конфискаций и контрибуций в рамках возложения круговой поруки․ В некоторых районах чаще прочего применяли отправку в штрафные части․ Так, Кустанайская УКД 20․08․1920 г․ постановила направить в штрафроту на срок от одного до шести месяцев 52 злостных дезертира․ В следующем месяце этому наказанию подвергли еще 50 беглецов 1 ․
Пенитенциарные функции в отношении семей дезертиров, по решениям УКД, уездисполкомов и трибуналов, исполняли волостные ИК, военкоматы, а также профильные структуры управления: комкрасхозы, отделы социального обеспечения и т․ д․ В губернском центре наказания дезертирам и уклонистам назначали ГКД, военные и революционные трибуналы, судебно-следственная комиссия военкомата, губЧК (при рассмотрении дел дезертиров)․ Субъектами ответственности являлись дезертиры, укрыватели, попустители, подстрекатели, уклонисты от призывов, должностные лица, сельские общества (штрафы, принудительные работы) и целые волости (контрибуции)․
К моменту окончательного закрепления Советской власти на Южном Урале осенью 1919 г․ система санкций была апробирована в других регионах․ Образованные органы государственного принуждения получили ее в комплексе, а не вводили поэтапно․ Челябинская губерния, созданная в сентябре 1919 г․ первые месяцы являлась прифронтовой территорией, где армейские и советские структуры в сжатые сроки призвали десятки тысяч чел․ Организационная неподготовленность мобилизаций и комплекс других причин вызвали массовое дезертирство․ Масштабы приняли угрожающий ха-рактер․ По данным ГКД, с 01․11․1919 по 31․01․1921 без
1 ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» (далее — ОГАЧО) Ф․ Р-97․ Оп․ 2․ Д․ 139․ Л․ 82, 187․ учета погрешностей отчетов в губернии были задержаны, добровольно явились и выявлены иными способами 39 165 дезертиров и уклонистов, из них за 1920 г․ — 36 1442․ Данную статистику можно с уверенностью увеличить на тысячи дезертиров, прошедших через органы ЧК, милиции и 4000 дезертиров труда, изъятых с апреля по декабрь 1920 г․ Видя размах проблемы и слабое воздействие агитации, власти переходили к ре-прессиям․ В феврале 1920 г․ Челябинская ГКД рекомендовала «наиболее реальные и целесообразные меры»․ Карательные включали наложение штрафов на деревню, где скрывается большинство дезертиров; контрибуции на волость, где большинство населения — кулачество, за укрывательство и содействие; полной конфискации на 3–4 хозяйства; частичное привлечение к ответственности волостных властей3․
Инструкции Центральной и Окружной комдез устанавливали пределы санкций: за первый не злостный побег — не выше штрафных частей, за первый злостный — «одна из высших мер»․ Отдельно оговаривалось: если в семье один — дезертир, а другой — «честный красноармеец», конфискации не применять 4 ․ Но исполнители на местах не всегда соблюдали данное требование․
В Челябинской губернии удельный вес злостных за 1920 г․ составил 35,7 % (12 971 чел)․ Статистику наказаний содержит сводная таблица из годового отчета Челябгубкомдез5 (таблица 1)․
За данный период в ГКД в административном порядке рассмотрели 5645 дел на 9950 дезертиров (отмеченных в таблице как производства), а в отделении трибунала при ГКД — 1666 дел, в рамках которых приговаривали от одного до десятков человек․ Остальных в ходе разборов распределили: 21 185 — в запасные части, 12 — в госпитали, 323 — освободили военно-врачебные комиссии, 275 — не признали дезертирами и освободили, 17 — в ГубЧК․ Сотни людей отправили в отпуска, инспекции труда, Народные суды, комиссии по пленным и беженцам 6 ․ Таким образом, большинство извлеченных дезертиров и уклонистов вернули в ряды РККА․ Это подтверждает тезис, что главной целью было не покарать беглецов, а вернуть их в строй․ В 1920 г․ это являлось насущной проблемой ввиду исчерпания мобилизационных ресурсов и сложной обстановки на фронтах․
Общее количество вынесенных условных приговоров за 1920 год — 1242․ Цифра дана без временной разбивки, однако из отчетов следует, что четверть из них (364) пришлось на сентябрь․ По уездам картина серьезно различалась: в Челябинском за год их постановили 692 (более половины), в Троицком — 59, а в Курганском — ни одного 7 ․ Однако в последнем практиковали условные штрафы на принципах круговой поруки․
|
Таблица 1 — Статистика наказаний (сводная таблица из годового отчета Челябгубкомдез) |
|||||||||||||
|
го" СП СТ |
ГО СП ф о |
н го 5 |
ф < |
5S ГО ^ |
X S |
S |
СП < |
ф О |
о |
го |
о ф со |
||
|
Дел рассмотренных ГКД |
1718 |
1746 |
1468 |
1308 |
1140 |
744 |
645 |
365 |
347 |
469 |
9950 |
||
|
В отделении Ревтрибунала |
58 |
18 |
79 |
44 |
206 |
347 |
220 |
259 |
263 |
178 |
1666 |
||
|
Расстрел |
8 |
10 |
18 |
||||||||||
|
Тюрьма |
23 |
31 |
17 |
71 |
|||||||||
|
Концлагерь |
6 |
2 |
1 |
7 |
36 |
58 |
26 |
4 |
2 |
7 |
149 |
||
|
Штрафные части |
97 |
313 |
1136 |
906 |
763 |
645 |
571 |
222 |
196 |
88 |
55 |
65 |
5063 |
|
Условных |
1242 |
||||||||||||
|
Конфискации выездной сессией у дезертиров |
99 |
159 |
167 |
147 |
93 |
728 |
|||||||
|
Укрывателей |
100 |
||||||||||||
|
КРС |
70 |
70 |
274 |
447 |
77 |
938 |
|||||||
|
Коней |
28 |
60 |
283 |
372 |
101 |
856 |
|||||||
В августе Курганская УКД постановила подвергнуть граждан Давыдовской, Байдарской и Половинской волостей условному штрафу в 4 млн руб․ с обязательством, что они «сами очистят» местность от дезертиров, но с угрозой сразу «привести в исполнение», если последние «вновь появятся» 1 ․ Не ясно, отразились ли такие случаи, как и условные расстрелы (с отправкой на фронт) в статистике приговоров․ В сентябре 1920 г․ в Троицком уезде в рамках одной акции по конфискации имущества у дезертиров и укрывателей три отмечены как услов-ные․ Советским служащим, за попустительство, назначались условные штрафы и аресты на несколько суток без отрыва от исполнения обязанностей2․
К высшей мере за 1920 г․ по линии ГКД приговорили 18 дезертиров [9]․ Данная цифра вызывает сомнения из-за распространенной практики расстрелов на месте «при попытке к бегству», отсутствия сводной статистики смертных приговоров за дезертирство, вынесенных губЧК, трибуналами, выездными сессиями и пробелов в документах․ Так, в отчете ГКД за сентябрь 1920 г․ отмечены 10 дезертиров Верхнеуральского уезда, расстрелянных на месте․ Здесь налицо внесудебная расправа в боевой обстановке с участием сотрудников комдез3․ Правосудие в упрощенном порядке иллюстрирует решение по злостным дезертирам С․ Н․ Сафонову, Ф․ Е․ Семенову и Е․ Я․ Никитину․ С учетом отягчающих обстоятельств (скрывались три месяца, бежали с обмундированием и оружием) коллегия ГКД при участии члена отделения трибунала 19․08․1920 приговорила их к расстрелу4․
За групповое дезертирство из эшелона отделение ревтрибунала при ГКД 16․07․1920 осудило 30 чел․ к пожизненному заключению, замененному отправкой на фронт5․ В данном случае итоговая санкция совпадает с приговорами к условным расстрелам, но, по сути, красноармейцы не понесли наказания, продолжив движение в действующую армию․
Лишение свободы назначалось, за подобными редкими исключениями, на определенный срок либо «до окончания Гражданской войны»․ В рамках трибу-нальной юстиции и правосудия губЧК к заключению приговаривали и условно․ Документы ГКД за 1920 г․ информируют, что по линии комдез в тюрьмы направили 71 чел․, причем всех с июля по сентябрь, а в концлагеря — 149․ Из числа последних большинство (120) осудили за те же три месяца․ Отметим также 7 труддезер-тиров, отправленных в дома лишения свободы (ДЛС) и 41 в лагеря принудительных работ (ЛПР), имевшихся во всех уездных центрах 6 ․ Весной 1922 г․, несмотря на несколько амнистий, среди заключенных губернии числились десятки дезертиров 7 ․
Назначение данного наказания не входило в полномочия УКД, поэтому картина по уездам не просматри-вается․ Отчасти это восполняется судебной практикой
-
4 Там же․ Д․ 3․ Л․ 197, 228․
-
5 Там же․ Л․ 74․
-
6 Там же․ Д․ 142․ Л․ 55, 56, 72․
-
7 Там же․ Ф․ Р-10․ Оп․ 1․ Д․ 127․ Л․ 13–24․ Д․ 128․ Л․ 2–101․
выездных сессий, которые в 1920 г․ семь раз высылало отделение при ГКД, кроме иных, отправленных военными и губернским ревтрибуналами․
Выездная сессия Реввоентрибунала при Армии Труда 20․09․1920 в Верхнеуральске рассмотрела дело по обвинению группы лиц в «двукратном» дезертирстве, организации банды, поделке документов, контрреволюционной агитации и соучастии в убийствах советских работни-ков․ К расстрелу приговорили 9 чел․, лишению свободы на срок от пяти до двадцати лет — 12 чел․ На жителей трех поселков (за исключением семей честных красноармейцев) за укрывательство и недоносительство наложили контрибуцию: Еленинский — 100 лошадей, 100 коров, 500 овец, по 250 полушубков и сапог; Неплю-евский и Анненский суммарно — 600 лошадей, 500 коров, 1500 овец, 500 полушубков․ Расстрел произвели 23 сентября, а изъятия имущества в течение нескольких дней 1 ․ Сессия действовала в уезде месяц, постановив приговоры по десяткам подобных дел․ Статистику расстрелов по таким приговорам в документах ГКД не отражали, даже если дознание производили сотрудники УКД․
Из отчета ГКД следует, что в штрафные части, по решениям УКД и ГКД за 1920 г․ отправили 5063 дезертиров․ Больше всего наказаний назначили в марте — 1136 чел․ (рост в 3,6 раза по сравнению с февралем)․ С апреля по июль число штрафников по нисходящей снижалось от 907 до 571․ С августа по декабрь суммарно этой санкции подвергли 624 чел․ Штрафные роты находились в ведении уездвоенкоматов при запасных частях․ В Кустанайском уезде с июня 1920 г․, эту санкцию применили к 230 дезертирам․ Сроки наказания составляли от двух недель до 12 месяцев2 Штрафников использовали на работах, откуда многие вновь дезертировали․ В Кустанайском уезде их задействовали на покосах, где они в августе 1920 г․ организованно присоединились к зеленым 3 ․
За бегство из штрафных частей применяли более суровые санкции․ ГКД летом 1920 г․ приговорила Е․ К․ Кочнева и И․ Н․ Богдановского к 12 месяцам штрафроты, откуда они бежали, но затем добровольно сдались․ Выездная сессия в Троицке 16 сентября осудила их на 15 лет лишения свободы с конфискацией 4 ․
Чрезвычайной мерой являлась контрибуция․ Ее накладывали на волости (станицы) по приговорам трибуналов, реже губЧК․ Наказание назначали за групповое дезертирство, массовое укрывательство, часто сопряженное с повстанчеством․ К ответственности привлекались все жители, за исключением семей советских работников и честных красноармейцев․ Им вменяли непринятие мер к выдаче дезертиров, помощь им, недо-носительство․ В статистике ГКД контрибуции отдельно не выделялись, частично учитываясь, как конфискации․
Усиление этого направления в губернии произошло после объявления 3 августа 1920 г․ «Похода на дезертиров и их укрывателей»․ В рамках этой акции ответственность за нахождение беглецов в населенном пункте налагалось на все общество․ Совместный циркуляр губко-ма РКП (б), губвоенкомата, ГКД и губЧК от 11․09․1920 по поводу организации ОРТ в уездах и их работы, рекомендовал: «В тех районах, где особо свирепствуют дезертиры выбрать наиболее злостную волость (станицу) произвести имущественное обложение преимущественно кулацкого элемента и тотчас же широко оповестить об этом население»5․ То есть данная мера планировалась, как точечная, но с расчетом на пропагандистский эффект в целях устрашения и профилактики укрывательства․
В конце сентября в «злостные уезды» отправили межведомственные экспедиции, ОРТ и выездные сессии трибуналов, ориентированные на «систематические конфискации и контрибуции», в октябре дополнительно сформировали еще пять сессий 6 ․ После ликвидации Зеленой армии в Кустанайском уезде на две волости в сентябре 1920 г․ наложили штраф в 300 тыс․ руб․, а затем контрибуцию: 2 млн руб․ на Большечураковскую и 3 млн руб․ на Новоалексеевскую 7 ․ Коллегия губЧК в Челябинске 25․09․1920 г․ приговорила к расстрелу и заключению в концлагерь 56 участников дезертирской организации Голубая армия․ Отдельно в протоколе отметили: «Войти в ходатайство… о наложении контрибуции в виде репрессии на жителей станиц Еткульской, Карата-банской, Кичигинской за злостное укрывательство дезертиров и в способствовании организовать банды»․ Президиум губИК 7 октября постановил: «Материалы препроводить в губкомдез для наложения взыскани-я» 8 ․ Осенью 1920 г․ межведомственная экспедиция УКД в дер․ Агилькулова Челябинского уезда по обвинению в укрывательстве дезертира привлекла к ответственности 80 домохозяев․ По итогам расследования в декабре была назначена контрибуция в 100 тыс․ руб․, «пропорционально имущественному состоянию»9․
Таким образом, контрибуции применялись на принципах круговой поруки в сочетании с коллективными штрафами и индивидуальными конфискациями․ Оповещая население — исполнители стремились сформировать убеждение о неотвратимости наказания․ Показательные акции, в сочетании с восстановлением в правах сдавшихся и амнистиями, демонстрировали принципиальность, неотвратимость и справедливость наказания․
Коллективные штрафы, когда субъектом наказания выступала вся сельская община, налагались за укрывательство, пособничество, трудовое дезертирство․ В итоговом отчете эту санкцию также отдельно не отразили, отметив, что за 1920 г․ оштрафовали 12 поселков на общую сумму 5 976 000 руб․ Предположим, что все случаи связаны с массовыми конфискациями или контрибуциями в тех же пунктах и индивидуальными штрафами, что просматривается из приведенных примеров․ Картина по уездам различалась․ По отрывочной информации в Троицком за 1920 г․ общая сумма штрафов составила 8000 руб․, в Курганском данной мере подвергали только четырех человек в апреле на 10 тыс․, по Челябинскому в сентябре оштрафовали четыре села на 300 тыс․, в октябре 63 граждан на 44,5 тыс․, в ноябре еще два поселка по 200 тыс․ В Верхнеуральском на один поселок в августе наложили 300 тыс․, с граждан за год взыскали 781 тыс․ Такие объемы связаны с действиями в уезде выездных сессий и ОРТ1․
К имущественным санкциям относилась индивидуальная конфискация имущества․ За 1920 г․ (с августа по декабрь) в документах отразили 728 случаев изъятий у дезертиров и 100 — у укрывателей произведенных выездными сессиями отделения трибунала при ГКД․ Но конфискации назначались также по решениям УКД, командования отрядов, межведомственных экспедиций, ОРТ․ В некоторых уездах, как в Кустанайском, ее применяли редко — за год отражен один факт в ноябре на сумму 50 тыс․ руб․2․ По линии комдез конфискации первое время носили случайный и единичный характер: с ноября 1919 по август 1920 гг․ отмечено 60 случа-ев․ Но с августа по декабрь их произвели уже 573․ У жителей изъяли сотни голов КРС, лошадей, свиней, овец, а также домашнюю птицу, землю, дома, зерно, продукты, личное имущество, одежду 3 ․ Отметим, что проблема конфискаций требует отдельного исследования ввиду большой специфики практике их применения на уровне районов и уездов региона․
Арест, как дисциплинарную меру назначали за труд-дезертирство или попустительство․ Так, в ноябре 1920 г․ в Миасской УКД за халатность, «скверную организацию отчетности» к ряду сотрудников, включая зампредседателя, применили аресты․ Осенью подобная картина наблюдалась по всем уездам4․ Важным элементом борьбы являлись периодические недели явки, когда сдавшиеся лица освобождались от личной ответственности, а семьи восстанавливали в правах на получение помо-щи․ Правило распространялось также на уклонистов и злостных дезертиров, при отсутствии иных составов преступления․ В Челябинской губернии первую акцию провели в июне 1920 г․, когда явилось более тысячи человек, больше всего в Кустанайском уезде (739)5․ Данный способ легализации мог привести к освобождению от службы․ После фильтрации многих отправляли в бессрочный отпуск, увольняли по итогам освидетельствования, как негодных, не признанных дезертирами, либо по возрасту․ Следующую волну явок организовали в ноябре-декабре, с широким оповещением в прессе, причем даты в уездах варьировались․ По итогам за ноябрь, в губернии 77 задержанных и явившихся освободили, 57 признали не годными к службе․ Всего же за 1920 г․ 40 % всех извлеченных дезертиров и уклонистов явились сами (14 463)6․ Отметим и амнистии, примененные в ноябре-декабре 1920 и мае 1921 гг․, когда сокращались сроки и объемы наказаний, либо осужденных освобождали․
Заключение и вывод
Итак, система наказаний за дезертирство в регионе являлась весьма громоздкой и местами запутанной․ Распространенность отдельных видов санкций в те или иные отрезки времени зависела от политической обстановки, местных условий, наличия ресурсов и возможностей уполномоченных органов․
Среди целей наказаний, наряду с охраной существующего режима, отметим профилактику в плане устранения причин и мотивов к укрывательству, а также компенсацию за унесенное дезертирами казенное имущество․ Принципы ответственности, за исключением круговой поруки, революционного правосознания и пролетарской совести, в нормативных актах и приговорах не прописывались, но их фиксировали в инструкциях и приказах, где речь шла о формировании у населения чувства неотвратимости наказания․
На протяжении рассматриваемого периода репрессии сочетались с амнистиями и восстановлением в пра-вах․ Высшая мера и лишение свободы в совокупности составили менее одного процента из общего числа наказаний по линии комдез․ Наиболее суровые санкции, как правило, носили показательный характер и не были массово распространены․ Они имели целью удержать потенциальных дезертиров и уклонистов или вернуть в ряды Красной Армии уже бежавших․ Но перегибы в действиях исполнителей на местах присутствовали․ В ходе плановых акций административные, уголовные, экономические санкции и меры принуждения использовали комплексно․
Список литературы Система санкций за дезертирство в РСФСР в 1919-1921 гг. (по материалам Челябинской губернии)
- Позднякова А. С. Создание и деятельность Вятской губернской комиссии по борьбе с дезертирством в 1919 году // Genesis: исторические исследования. 2018. № 11. С. 56-66. EDN: YPVQIH
- Панькин С. И. Масштабы, динамика и формы дезертирства в Челябинской губернии в 1919-1920-х гг. // Военно-юридический журнал. 2022. № 1. С. 25-29. EDN: KIUEAR
- Никулин В. В. Дезертирство в период гражданской войны в России. Общая характеристика, чрезвычайное законодательство и уголовное наказание (1918-1920 годы) // Юридические исследования. 2014. № 9. С. 23-50. EDN: SNDTQP
- Левшин К. В. Дезертирство в Красной армии в годы Гражданской войны (по материалам Северо-Запада России). Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016. 360 с.
- Декреты Советской власти. Т. 4: 10 ноября 1918 - 31 марта 1919. Москва: Политиздат, 1968. 731 с.
- Сборник постановлений и распоряжений Центральной комиссии по борьбе с дезертирством. Вып. IV. Москва: [б. и.], 1920. 130 с.
- Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1919 г. / Упр. делами Совнаркома СССР. Москва: [б. и.], 1943. 886 с.
- Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1920 г. / Упр. делами Совнаркома СССР. Москва: [б. и.], 1943. 818 с.
- Советская правда (Челябинск). 1920 год. 19 декабря.