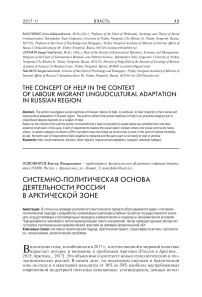Системно-политическая основа деятельности России в арктической зоне
Автор: Новожилов Виктор Феодосьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 11, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере российского арктического проекта обосновывается идея о системно-политическом подходе к разработке и реализации крупномасштабных проектов государственного значения, осуществляемых в экстремальных природно-климатических и социально-экономических условиях. Подчеркивается значимость институционализации такого управления. Автор приводит данные экспертного опроса и региональной управленческой практики на примере Архангельской обл.
Системно-политический подход, арктический проект, отраслевая политика, геополитика, геоэкономика, экологическая проблема
Короткий адрес: https://sciup.org/170168650
IDR: 170168650
Текст научной статьи Системно-политическая основа деятельности России в арктической зоне
В последние годы, в особенности в 2017 г., в отечественной и мировой политике нарастает интерес и внимание к проблемам Арктики [Россия в Арктике...
2015; Арктика… 2017]. Это объяснимо в контексте новых геополитических и гео-экономических реалий. В самом деле, по некоторым оценкам в Арктической зоне на суше и в акваториях находится от 30% до 50% наиболее востребованных современной индустрией полезных ископаемых: углеводородов, ценных метал- лов, алмазов, угля, добыча которых пока мало освоена в силу сложности природных условий этого макрорегиона. По тем же причинам не освоены в широком масштабе возможности Северного морского пути как наиболее короткой торгово-транспортной трассы, связывающей между собой основные континенты. Напрямую интерес к этим ресурсам имеют 8 приарктических государств, 7 из которых входят в НАТО, и Россия.
Кстати говоря, неосвоенность в военно-техническом аспекте нашей Арктической зоны в 40–50-х гг. XX в. и благоприятствующие в транспортном и мониторинговом аспекте условия для проникновения через наши границы в этом поясе послужили факторами, способствующими систематическому разведывательному проникновению через наши границы. На сей счет даже существует необычная трактовка истории гибели группы студентов во главе с И. Дятловым [Ракитин 2016: 371-474].
«В 1956 г. и в последующие годы (после успеха операции Home run ) разведки стран НАТО получили подтверждение незащищенности территории СССР с северного направления. Полеты скоростных самолетов-разведчиков “стра-тоджет” из Туле (Гренландия), Брайс-Нортона (Великобритания) и Фэрбэнкса (Аляска) в глубь территории СССР через побережье Северного Ледовитого океана стали весьма активны. Так продолжалось до середины 1960 г.» [Ракитин 2016: 471]. В начале 60-х гг. эту деятельность удалось остановить.
Вместе с тем в освоении данных ресурсов экономически заинтересованы и готовы принять долевое участие десятки государств. Для России данный широтный пояс имеет особое значение, поскольку по площади он составляет 3,4 млн кв. км, или почти 20% нашей территории. Здесь расположены территории 8 субъектов РФ. Здесь существует контраст между наименьшей плотностью населения и, следовательно, дефицитом трудовых ресурсов и наибольшей концентрацией реальных и потенциальных природных ресурсов.
Следует подчеркнуть также геополитическую значимость Арктики, прежде всего в мировой политике. Именно этот регион оптимален с точки зрения его использования для возможного применения современных систем ракетно-ядерного оружия, мониторинга безопасности и парирования возможного нападения. Однако условия размещения и эксплуатации таких систем наиболее трудны и дорогостоящи.
Весь этот «экологический след» отчасти присутствует и в современных реалиях.
Так, в недавнем экспертном опросе по проблемам реализации экологической политики в Архангельской обл. на вопрос: «Как бы Вы оценили эффективность экологической политики местных органов власти?» – число отрицательных оценок в ранговом отношении почти в 1,5 раза превышало число положительных1. А распределение ответов на вопрос: «В чем заключаются, на Ваш взгляд, основные препятствия для полностью успешной реализации мер экологической политики в регионе?» приведено в табл. 1.
Как видим, основной недостаток «запрограммирован» еще на стадии подготовки управленческого решения и обеспечения его ресурсами.
Помимо сложности для хозяйственно-экономической и военной деятельности, Арктическая зона отличается очень своеобразной хрупкой экосистемой, поскольку возможности природной саморегуляции и воспроизводства экосистемы здесь крайне ограничены. Между тем именно данные ограничения сталкиваются с долгосрочными и краткосрочными планами развертывания активной индустриальной деятельности на национальном и глобальном уровнях.
При этом в материалах многочисленных форумов, совещаний, проводимых
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос:
«В чем заключаются, на Ваш взгляд, основные препятствия для полностью успешной реализации мер экологической политики в регионе?», %
Реалии современной России добавляют к фрагментации ведомственного типа еще и фрагментацию по интересам крупных корпораций.
Такая фрагментация приводила прежде всего к крупномасштабным экологическим последствиям. Не секрет, к примеру, и эти сюжеты освещались отечественными и зарубежными СМИ, что для возобновления ныне активной военной деятельности в Арктической зоне приходится утилизировать огромные заторы из мусора, брошенной техники и перестраивать инфраструктуру, пришедшую в негодность со времен 1960–1980-х гг. Похожая картина наблюдается и при утилизации остатков промышленной деятельности, свернутой в 1990-х гг. из-за экономического банкротства целых производственных комплексов.
Все это заставляет взглянуть на позитивные и возможные негативные последствия новой широкомасштабной волны деятельности в Арктике не только с секторных и ведомственных позиций, но и в рамках более объемного подхода. Назовем его системно-политическим, поскольку в современной практике государственного, политического управления преобладает отраслевой (ведомственный) подход. По этому принципу строится государственное управление и его бюджетирование. К примеру, именно на этом основании выделяют до 40 отраслевых государственных политик [Якунин и др. 2012: 3-4]. В дальнейшем встает задача поиска интегративных критериев оценки качества политического управления, методик сведения показателей [Якунин и др. 2012: 464-476]. Кстати, с подобными проблемами приходится сталкиваться, к примеру, и при оценке деятельности губернаторов в целом.
С нашей точки зрения, ввиду значительного преобладания проблем и рисков, связанных с национальной безопасностью (геополитического и геоэкономи-ческого характера), целесообразно бы было не ограничиваться только координационными и мониторинговыми мерами, а сформировать Госкомитет РФ по реализации Арктического проекта, в рамках которого вполне возможна реализация и системно-политического подхода к управлению, и преодоление барьеров ведомственного и корпоративного характера. Конечно, это мера (создание нового института госуправления) институционального порядка. Но она оправ- дана своей устойчивостью и неподверженностью ситуативной или ведомственной конъюнктуре. Как совершенно верно подчеркнул известный исследователь экологической политики Йоахим Радкау, «заинтересованность общества подвержена мимолетной конъюнктуре и на удивление быстро вытесняется другими темами и эмоциями. В этом отношении многому может научить уже история последних десятилетий. Только институции обладают долгосрочностью, отвечающей хроническому характеру многих экологических проблем» [Радкау 2014: 358-359]. Кстати говоря, и экологические проблемы Арктической зоны нуждаются во включении в системно-политическую модель управления, дабы не попасть в волну конъюнктуры или неудачно (в данном случае – для природы и людей) сложившихся обстоятельств.
Высказанная рекомендация, на наш взгляд, приемлема и для уровня глобального управления, для обеспечения которого может быть сформирован на постоянной основе, например, Международный комитет ООН по Арктике. Данное предложение находится в прогнозном тренде на среднесрочную перспективу, высказываемом исследователями глобальных изменений с позиций методологии циклического развития Н.Д. Кондратьева: «После 2020 г. начнется повышательная волна нового (шестого) цикла Кондратьева, связанная с массовым внедрением новых технологий… Очевидно, что широкое распространение этих новейших технологий потребует существенного изменения многих социальных, политических и экономических институтов, в том числе международных. Так, весьма вероятно изменение структуры и состава участников Совета Безопасности ООН, МВФ, Всемирного банка и других организаций, призванных осуществлять глобальное управление» [Пантин 2017: 219].
И последнее. Хотелось бы определить роль региональных и местных органов власти в предлагаемом подходе.
Выступая на международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который прошел 29–30 марта 2017 г. в Архангельске, Владимир Путин отметил: «Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера, сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому отношение со стороны государства».
В преддверии международного Арктического форума «Арктика – территория диалога» Архангельское областное собрание депутатов как законодательный орган, действующий в условиях Крайнего Севера, инициировало проведение совещания с депутатами Государственной думы на тему «Государственная политика Российской Федерации по развитию Арктической зоны. Возможные риски, пути их решения».
В ходе совещания, которое состоялось в Архангельском областном собрании депутатов 29 марта 2017 г., обсуждался процесс разработки проекта государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Несмотря на то что программа развития арктических территорий была утверждена еще в 2014 г., реалии сегодняшнего дня настойчиво требуют ее пересмотра и определения вектора развития Арктической зоны.
В одном из рабочих вариантов обсуждаемой госпрограммы выбрано 8 опорных зон (Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская). Вместо отраслевого предложено использовать именно территориальный принцип развития Арктики. Необходимо подчеркнуть, что инвесторы, готовые реализовать свои проекты в этих зонах, будут получать льготы – налоговые, таможенные и др.
В Архангельской обл. формирование пилотной опорной зоны будет вклю- чать в себя несколько масштабных проектов, в их числе строительство железнодорожной магистрали «Белкомур», глубоководного района морского порта Архангельска, разработка Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле со строительством горно-обогатительного комбината, создание технологического, агропромышленного парков и промышленного кластера стройиндустрии.
В настоящее время ведется активная работа по увязке данных проектов в единый комплексный проект территориального развития Архангельской опорной зоны. Большинство проектов будут реализованы до 2030 г. Это скажется на темпах экономического роста, а значит на качестве жизни населения Архангельской обл. и Арктической зоны РФ в целом.
Арктическая зона сегодня – это та территория, управлять которой предстоит научиться в новых условиях. Сформирована часть законодательной базы, идет активнейшая работа над проектами федерального закона и государственной программы. Вместе с тем представляется, что экономический потенциал арктических территорий должен максимально раскрыться именно в деятельности опорных зон. Среди этих территорий Архангельская обл. занимает и будет занимать достойное место.
Список литературы Системно-политическая основа деятельности России в арктической зоне
- Материалы IV Международного Арктического форума. 29-30 марта 2017 г., г. Архангельск. Доступ: http://Forumarctica.ru/news
- Пантин В.И. 2017. Циклы Кондратьева и перспективы мирового развития в первой половине XXI в. -Н.Д. Кондратьев: кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн. Взгляд из современности. М.: Учитель. С. 212-221
- Радкау Й. 2014. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды. М.: Изд-во ВШЭ. 472 с
- Ракитин А. 2016. Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале. М.-Екатеринбург: Кабинетный ученый. 892 с
- Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения (под ред. М.В. Ремизова). 2015. М.: Книжный мир. 384 с
- Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Орлов И.Б., Строганова С.М. 2012. Качество и успешность государственных политик и управления: монография. М.: Научный эксперт. 488 с